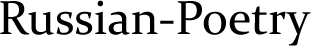Чарли Чаплин вышел из кино. Две подметки, заячья губа, Две гляделки, полные чернил И прекрасных удивленных сил. Чарли Чаплин — заячья губа, Две подметки
Стихотворения поэта Мандельштам Осип Эмильевич
Пусти меня, отдай меня, Воронеж: Уронишь ты меня иль проворонишь, Ты выронишь меня или вернешь,- Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож. Апрель 1935
Я вернулся в мой город, знакомый до слез, До прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, так глотай же скорей Рыбий жир ленинградских
Не веря воскресенья чуду, На кладбище гуляли мы. — Ты знаешь, мне земля повсюду Напоминает те холмы Где обрывается Россия Над морем черным и
Образ твой, мучительный и зыбкий, Я не мог в тумане осязать. «Господи!»- сказал я по ошибке, Сам того не думая сказать. Божье имя, как
Отравлен хлеб, и воздух выпит: Как трудно раны врачевать! Иосиф, проданный в Египет, Не мог сильнее тосковать. Под звездным небом бедуины, Закрыв глаза и
Что поют часы-кузнечик. Лихорадка шелестит, И шуршит сухая печка,- Это красный шелк горит. Что зубами мыши точат Жизни тоненькое дно,- Это ласточка и дочка
Обиженно уходят на холмы, Как Римом недовольные плебеи, Старухи овцы — черные халдеи, Исчадье ночи в капюшонах тьмы. Их тысячи — передвигают все, Как
Паденье — неизменный спутник страха, И самый страх есть чувство пустоты. Кто камни нам бросает с высоты, И камень отрицает иго праха? И деревянной
На страшной высоте блуждающий огонь! Но разве так звезда мерцает? Прозрачная звезда, блуждающий огонь,- Твой брат, Петрополь, умирает! На страшной высоте земные сны горят,
Где связанный и пригвожденный стон? Где Прометей — скалы подспорье и пособье? А коршун где — и желтоглазый гон Его когтей, летящих исподлобья? Тому
Невыразимая печаль Открыла два огромных глаза, Цветочная проснулась ваза И выплеснула свой хрусталь. Вся комната напоена Истомой — сладкое лекарство! Такое маленькое царство Так
Все чуждо нам в столице непотребной: Ее сухая черствая земля, И буйный торг на Сухаревке хлебной, И страшный вид разбойного Кремля. Она, дремучая, всем
За то, что я руки твои не сумел удержать, За то, что я предал соленые нежные губы, Я должен рассвета в дремучем Акрополе ждать.
Пиндарический отрывок Глядим на лес и говорим: — Вот лес корабельный, мачтовый, Розовые сосны, До самой верхушки свободные от мохнатой ноши, Им бы поскрипывать
Мастерица виноватых взоров, Маленьких держательница плеч! Усмирен мужской опасный норов, Не звучит утопленница-речь. Ходят рыбы, рдея плавниками, Раздувая жабры: на, возьми! Их, бесшумно охающих
Как по улицам Киева-Вия Ищет мужа не знаю чья жинка, И на щеки ее восковые Ни одна не скатилась слезинка. Не гадают цыганочки кралям,
С. Я. Каблукову Убиты медью вечерней И сломаны венчики слов. И тело требует терний, И вера — безумных цветов. Упасть на древние плиты И
Бесшумное веретено Отпущено моей рукою. И — мною ли оживлено — Переливается оно Безостановочной волною — Веретено. Все одинаково темно; Все в мире переплетено
Жизнь упала, как зарница, Как в стакан воды — ресница. Изолгавшись на корню, Никого я не виню. Хочешь яблока ночного, Сбитню свежего, крутого, Хочешь,
Нежнее нежного Лицо твое, Белее белого Твоя рука, От мира целого Ты далека, И все твое — От неизбежного. От неизбежного Твоя печаль, И
Чтоб, приятель и ветра и капель, Сохранил их песчаник внутри, Нацарапали множество цапель И бутылок в бутылках зари. Украшался отборной собачиной Египтян государственный стыд,
Ни о чем не нужно говорить, Ничему не следует учить, И печальна так и хороша Темная звериная душа: Ничему не хочет научить, Не умеет
С веселым ржанием пасутся табуны, И римской ржавчиной окрасилась долина; Сухое золото классической весны Уносит времени прозрачная стремнина. Топча по осени дубовые листы, Что
Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем! Я нынче славным бесом обуян, Как будто в корень голову шампунем Мне вымыл парикмахер Франсуа. Держу пари, что
Это какая улица? Улица Мандельштама. Что за фамилия чертова — Как ее ни вывертывай, Криво звучит, а не прямо. Мало в нем было линейного,
О свободе небывалой Сладко думать у свечи. — Ты побудь со мной сначала,- Верность плакала в ночи,- Только я мою корону Возлагаю на тебя,
Отверженное слово «мир» В начале оскорбленной эры; Светильник в глубине пещеры И воздух горных стран — эфир; Эфир, которым не сумели, Не захотели мы
Тянется лесом дороженька пыльная, Тихо и пусто вокруг. Родина, выплакав слезы обильные, Спит, и во сне, как рабыня бессильная, Ждет неизведанных мук. Вот задрожали
На розвальнях, уложенных соломой, Едва прикрытые рогожей роковой, От Воробьевых гор до церковки знакомой Мы ехали огромною Москвой. А в Угличе играют дети в
О временах простых и грубых Копыта конские твердят. И дворники в тяжелых шубах На деревянных лавках спят. На стук в железные ворота Привратник, царственно-ленив,
Вооруженный зреньем узких ос, Сосущих ось земную, ось земную, Я чую все, с чем свидеться пришлось, И вспоминаю наизусть и всуе… И не рисую
Как кони медленно ступают, Как мало в фонарях огня! Чужие люди, верно, знают, Куда везут они меня. А я вверяюсь их заботе. Мне холодно,
«Тому свидетельство языческий сенат,- Сии дела не умирают» Он раскурил чубук и запахнул халат, А рядом в шахматы играют. Честолюбивый сон он променял на
Мне холодно. Прозрачная весна В зеленый пух Петрополь одевает, Но, как медуза, невская волна Мне отвращенье легкое внушает. По набережной северной реки Автомобилей мчатся
Кто знает! Может быть, не хватит мне свечи — И среди бела дня останусь я в ночи; И, зернами дыша рассыпанного мака, На голову
Воздух пасмурный влажен и гулок; Хорошо и не страшно в лесу. Легкий крест одиноких прогулок Я покорно опять понесу. И опять к равнодушной отчизне
Люблю морозное дыханье И пара зимнего признанье: Я — это явь; явь — это явь… И мальчик, красный, как фонарик, Своих салазок государик И
В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа, Нам пели Шуберта — родная колыбель. Шумела мельница, и в песнях урагана Смеялся музыки голубоглазый хмель.
Сегодня ночью, не солгу, По пояс в тающем снегу Я шел с чужого полустанка. Гляжу — изба: вошел в сенцы, Чай с солью пили
Мне Тифлис горбатый снится, Сазандарей стон звенит, На мосту народ толпится, Вся ковровая столица, А внизу Кура шумит. Над Курою есть духаны, Где вино
От вторника и до субботы Одна пустыня пролегла. О, длительные перелеты! Семь тысяч верст — одна стрела. И ласточки, когда летели В Египет водяным
Вы, с квадратными окошками, невысокие дома,- Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима! И торчат, как щуки ребрами, незамерзшие катки, И еще в прихожих слепеньких валяются
Я вздрагиваю от холода,- Мне хочется онеметь! А в небе танцует золото, Приказывает мне петь. Томись, музыкант встревоженный, Люби, вспоминай и плачь, И, с
Я должен жить, хотя я дважды умер, А город от воды ополоумел: Как он хорош, как весел, как скуласт, Как на лемех приятен жирный
Колют ресницы, в груди прикипела слеза. Чую без страху, что будет и будет гроза. Кто-то чудной меня что-то торопит забыть. Душно,- и все-таки до
Быть может, я тебе не нужен, Ночь; из пучины мировой, Как раковина без жемчужин, Я выброшен на берег твой. Ты равнодушно волны пенишь И
Ще не умер ты, еще ты не один, Покуда с нищенкой-подругой Ты наслаждаешься величием равнин И мглой, и холодом, и вьюгой. В роскошной бедности,
Я буду метаться по табору улицы темной За веткой черемухи в черной рессорной карете, За капором снега, за вечным, за мельничным шумом… Я только
Я не искал в цветущие мгновенья Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз, Но в декабре торжественного бденья Воспоминанья мучат нас. И в декабре семнадцатого