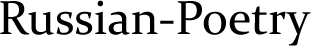Где римский судия судил чужой народ, Стоит базилика,- и, радостный и первый, Как некогда Адам, распластывая нервы, Играет мышцами крестовый легкий свод. Но выдает
Стихотворения поэта Мандельштам Осип Эмильевич
Звук осторожный и глухой Плода, сорвавшегося с древа, Среди немолчного напева Глубокой тишины лесной…
Я не слыхал рассказов Оссиана, Не пробовал старинного вина; Зачем же мне мерещится поляна, Шотландии кровавая луна? И перекличка ворона и арфы Мне чудится
Перевод из Огюста Барбье 1 Когда тяжелый зной гранил большие плиты На гулких набережных здесь, Набатом вспаханный и пулями изрытый Изрешечен был воздух весь;
Когда удар с ударами встречается И надо мною роковой, Неутомимый маятник качается И хочет быть моей судьбой, Торопится, и грубо остановится, И упадет веретено
Жил Александр Герцович, Еврейский музыкант,- Он Шуберта наверчивал, Как чистый бриллиант. И всласть, с утра до вечера, Заученную вхруст, Одну сонату вечную Играл он
Н. Гумилеву Над желтизной правительственных зданий Кружилась долго мутная метель, И правовед опять садится в сани, Широким жестом запахнув шинель. Зимуют пароходы. На припеке
Если утро зимнее темно, То холодное твое окно Выглядит, как старое панно: Зеленеет плющ перед окном; И стоят, под ледяным стеклом, Тихие деревья под
Прославим, братья, сумерки свободы, Великий сумеречный год! В кипящие ночные воды Опущен грузный лес тенет. Восходишь ты в глухие годы — О солнце, судия,
Когда на площадях и в тишине келейной Мы сходим медленно с ума, Холодного и чистого рейнвейна Предложит нам жестокая зима. В серебряном ведре нам
В огромном омуте прозрачно и темно, И томное окно белеет; А сердце, отчего так медленно оно И так упорно тяжелеет? То всею тяжестью оно
Я ненавижу свет Однообразных звезд. Здравствуй, мой давний бред,- Башни стрельчатый рост! Кружевом, камень, будь И паутиной стань, Неба пустую грудь Тонкой иглою рань!
Твое чудесное произношенье — Горячий посвист хищных птиц; Скажу ль: живое впечатленье Каких-то шелковых зарниц. «Что» — голова отяжелела. «Цо» — это я тебя
На бледно-голубой эмали, Какая мыслима в апреле, Березы ветви поднимали И незаметно вечерели. Узор отточенный и мелкий, Застыла тоненькая сетка, Как на фарфоровой тарелке
Я не увижу знаменитой «Федры», В старинном многоярусном театре, С прокопченной высокой галереи, При свете оплывающих свечей. И, равнодушнен к суете актеров, Сбирающих рукоплесканий
Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда… Как вода в новгородских колодцах должна быть
Из полутемной залы, вдруг, Ты выскользнула в легкой шали — Мы никому не помешали, Мы не будили спящих слуг…
Осенний сумрак — ржавое железо Скрипит, поет и разьедает плоть… Что весь соблазн и все богатства Креза Пред лезвием твоей тоски, господь! Я как
Когда в теплой ночи замирает Лихорадочный Форум Москвы И театров широкие зевы Возвращают толпу площадям — Протекает по улицам пышным Оживленье ночных похорон; Льются
«Мороженно!» Солнце. Воздушный бисквит. Прозрачный стакан с ледяною водою. И в мир шоколада с румяной зарею, В молочные Альпы, мечтанье летит. Но, ложечкой звякнув,