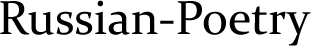Футбольный ли бешеный матч, Норд-вест ли над флагами лютый, Но тверже их твердой валюты Оснастка киосков и мачт. Им жарко. Они горожане. Им впаянный
Стихотворения поэта Антокольский Павел Григорьевич
В безжалостной жадности к существованью, За каждым ничтожеством, каждою рванью Летит его тень по ночным городам. И каждый гудит металлический мускул Как колокол. И,
Мы знаем праздники, которых В аду и в небе не забыть. Да, самое большое — быть В другом прохожем, в песье, в спорах И
Мрачен был косоугольный зал. Зрители отсутствовали. Лампы Чахли, незаправленные. Кто-то, Изогнувшись и пляша у рампы, Бедным музыкантам приказал Начинать обычную работу. Он вился вдоль
Памяти Зои Без шуток, без шубы, да и без гроша Глухая, немая осталась душа, Моя или чья-то, пустырь или сад, Душа остается и смотрит
Я не песню пропел, не балладу сложил, Отыскал я прямую дорогу, Но желанной награды я не заслужил И не заворожил недотрогу. Время шло. Зазнобила
Дикий ветер воет в скалах, Сердце мечется в груди. Где враги? Я так искал их, Знал, что подвиг впереди. Я дорогу начинаю. Надо мной
Разве ты на себя не похож, Не талантлив, не смел, не пригож, Не удачливей сверстников всех? Как же это случилось? Откуда Взгляд потухший, растерянный
Когда-то был Париж, мансарда с голубятней. И каждый новый день был века необъятней,- Так нам жилось легко. Я помню влажный рот, раскинутые руки… О,
Он сейчас не сорвиголова, не бретер, Как могло нам казаться по чьим-то запискам, И в ответах не столь уже быстр и остер, И не
А. Н. Н. 1 Вот и явился я в твой дом, Пусть не в родной, зато в последний,- Старик восьмидесятилетний Не осужден ничьим судом.
Прочтя к обеденному часу, Что пишут «Таймс» и «Фигаро», Век понял, что пора начаться, Что время за него горой. Был выпуск экстренный не набран.
С полудня парило. И вот По проводам порхнула искра. И ветер телеграмму рвет Из хилых рук премьер-министра. Над гарью городов гроза. Скатилась жаркая слеза
Я не хочу судиться с мертвецом За то, что мне казался он отцом. Я не могу над ним глумиться, Рассматривать его дела в упор
В старом доме камины потухли. Хмуры ночи и серы деньки. Музыканты приладили кукле, Словно струны, стальные коньки, И уснула она, улизнула, Звонкой сталью врезается
Был жаркий день, как первый день творенья. В осколках жидких солнечных зеркал, Куда ни глянь, по водяной арене Пузырился нарзан и зной сверкал. Нагое
Ни божеского роста, Ни запредельной тьмы. Она актриса просто, Наивна, как подросток, И весела, как мы. Цыганка Мариула Раздула свой очаг, Смугла и остроскула,
Черепной улыбкой осклабясь, Он прощенья просил у всех За причуды свои, за слабость, За рыданье, за жуткий смех. Проявили к нему сердечность, Несмотря на
Ручей столько натаскал камней и песку, Что вынужден был переменить свое русло. Леонардо да Винчи Нет, русла я не изменил И не искал тропы
Ты помнишь?– скрещались под сабельный стук Червонные звери геральдики древней. Мы вышли из башни. Огонь, догорев в ней, Зализывал спешно окопный уступ. Метался под
И год и два прошли. Под хриплый Враждебный крик Со дна времен внезапно выплыл Наш материк. Шестую часть планетной суши Свет пронизал. Ударил гул
Был тусклый зимний день, наверно. В нейтральной маленькой стране, В безлюдье Цюриха иль Берна, В тревожных думах о войне, Над ворохами русских писем, Над
Встань, Прометей, комбинезон надень, Возьми кресало гроз высокогорных! Горит багряный жар в кузнечных горнах, Твой тридцативековый трудодень. Встань, Леонардо, свет зажги в ночи, Оконце
Дикий ветер окна рвет. В доме человек бессонный, Непогодой потрясенный, О любви безбожно врет. Дикий ветер. Темнота. Человек в ущелье комнат Ничего уже не
Модели, учебники, глобусы, звездные карты и кости, И ржавая бронза курганов, и будущих летчиков бой… Будь смелым, и добрым. Ты входишь, как в дом,
Как это ни печально, я не знаю Ни прадеда, ни деда своего. Меж нами связь нарушена сквозная, Само собой оборвалось родство. Зато и внук,
В конце таинственного века Среди развалин, в щелях скал Державный разум человека Свою жилплощадь отыскал. Вот он — разведчик руд несметных, Проходчик в штреке
Вы спите? Вы кончили? Я начинаю. Тяжелая наша работа ночная. Гранильщик асфальтов, и стекол, и крыш — Я тоже несчастен. Я тоже Париж. Под
Лондонский ветер срывает мокрый брезент балагана. Низкая сцена. Плошки. Холст размалеван, как мир. Лорды, матросы и дети видят: во мгле урагана Гонит за гибелью
Во время войн, царивших в мире, На страшных пиршествах земли Меня не досыта кормили, Меня не дочерна сожгли. Я помню странный вид веселья,– Безделка,
Дыхнув антарктическим холодом, К тебе ненароком зайдя, Прапращур твой каменным молотом Загнал тебя в старость по шляпку гвоздя. Не выбраться к свету, не вытрясти
Вся работа канатоходца Только головоломный танец. Победителю тут венца нет, А с искусством ничтожно сходство. Наше дело очень простое: Удержать вверху равновесье, Верить в
Сколько выпито, сбито, добыто, Знает ветер над серой Невой. Сладко цокают в полночь копыта По торцовой сухой мостовой. Там, в Путилове, в Колпине, грохот.
Величанный в литургиях голосистыми попами, С гайдуком, со звоном, с гиком мчится в страшный Петербург, По мостам, столетьям, верстам мчится в прошлое, как в
В духане, меж блюд и хохочущих морд, На черной клеенке, на скатерти мокрой Художник белилами, суриком, охрой Наметил огромный, как жизнь, натюрморт. Духанщик ему
А океан бил в берега, Простой и сильный, как и раньше. А ураган трубил в рога И волны гнал назад к Ла-Маншу. Под звон
Сердце мое принадлежит любимой, Верен одной я непоколебимо, Есть у меня колечко с амулетом: Дымный топаз играет странным цветом. К милой приду и посмотрю
Художник был горяч, приветлив, чист, умен. Он знал, что розовый застенчивый ребенок Давно уж сух и желт, как выжатый лимон; Что в пульсе этих
Ссылка. Слава. Любовь. И опять В очи кинутся версты и ели. Путь далек. Ни проснуться, ни спать — Даже после той подлой дуэли. Вспоминает
И тьмы человеческих жизней, и тьмы, И тьмы заключенных в материю клеток, И нравственность, вбитая с детства в умы.. Но чей-то прицел хладнокровен и
Остается один только ритм Во всю ширь мирозданья — Черновик чьей-то юности, Чьей-то душе предназначенный… То, что было в двадцатых годах Не достойно изданья,-
Поэзия гипотез, Наш голод утоли: Дай заглянуть в колодезь, В черновики твои! Друг к дружке жмутся рифмы В темнице вялых строк, И проклинают нимфы
В долгой жизни своей, Без оглядки на пройденный путь, Я ищу сыновей, Не своих, все равно – чьих-нибудь. Я ищу их в ночи, В
Ребенок мой осень, ты плачешь? То пляшет мой ткацкий станок. Я тку твое серое платье, И город свернулся у ног. Ребенок седой и горбатый,
Вы встретитесь. Я знаю сумасбродство Стихийных сил и ветреность морей, Несходство между нами и сиротство Неисправимой верности моей. И вот в отчаянье и нетерпенье
Ну что ж, пора, как говорится, Начать сначала тот же путь. Слегка взбодриться — ламца дрица! И повториться в ком-нибудь. Ремонт не срочен и
Безрукая, обрубок правды голой, Весь в брызгах пены идол божества, Ты людям был необходим, как голод, И недоказан был, как дважды два. Весь в
Седая даль, морская гладь и ветер Поющий, о несбыточном моля. В такое утро я внезапно встретил Тебя, подруга ранняя моя. Тебя, Марина, вестница моряны!
В моей комнате, краской и лаком блестя, Школьный глобус гостит, как чужое дитя. Он стоит, на косую насаженный ось, И летит сквозь пространство и
Все прошло, пролетело, пропало. Отзвонила дурная молва. На снега Черной речки упала Запрокинутая голова. Смерть явилась и медлит до срока, Будто мертвой водою поит.