Перед гробницею позорной
Стою я с радостным челом,
Предвидя новый, благотворный
В судьбе России перелом.
О славном будущем мечтаю
Я для страны своей родной,
Но о прошедшем вспоминаю
С негодованьем и тоской.
На муки рабства и презрены:
Весь род славянский осужден,
Лежит печать порабощенья
На всей судьбе его племен.
И Русь давно уж подчинилась
Иноплеменному ярму,
Давно безмолвно покорилась
Она позору своему.
В цари к нам сели скандинавы,
Теснили немцы нас. Царьград
Вносил к нам греческие нравы
И все вертел на новый лад.
Потом, при этом рабстве старом
Доставшись новым господам,
Русь в пояс кланялась татарам
И в землю греческим попам.
Сперва под игом Русь стонала.
Кипело мщение в сердцах,
Но рабство и тогда сыскало
Себе защитников в попах.
«Покорны будьте и терпите, —
Поп в церкви с кафедры гласил, —
Молиться богу приходите,
Давайте нам по мере сил»…
Века промчались. Поколенья
Сменялись быстрой чередой,
В повиновеньи и терпеньи
Нашли обманчивый покой.
Природными рабами были
Рабы, рождаясь от рабов,
И, как веленья бога, чтили
Удар кнута и звук оков.
И пред баскаками смиренно
Князья их падали во прах…
Но гибнет мощь татар мгновенно
В домашних распрях и войнах.
Орда разбилась, Русь свободна…
Но с рабством русские сжились, —
Они, не умствуя бесплодно,
От воли сами отреклись.
Зато князья, увидев ясно,
Что не рабы они теперь,
Принялись править самовластно,
С господ ордынских взяв пример.
Как из лакеев управитель,
Как дворянин из мужиков,
Такой же вышел повелитель —
Царь-самодержец из рабов.
И деспотизмом беззаконным
Доселе Русь угнетена;
И до сих пор в забытьи сонном
Молчит и терпит все она.
Царь стал для русских полубогом,
Как папа средневековой;
Но не спокойствия залогом
Был он, а гибельной грозой.
Но пусть бы так!.. Еще России
Полезны дядьки и лоза,
Пусть предрассудки вековые
Рассеет царская гроза;
Пусть сказки нянек царь прогонит.
Пусть ум питомца развернет,
Сомненья искру в нем заронит,
К любви к свободе приведет.
Тогда пусть правит. Но неведом
Ему язык высоких дум,
Но чужд он нравственным победам,
Но груб и мелочен в нем ум.
Но шесть десятков миллионов
Он держит в узах, как рабов.
Не слыша их тяжелых стонов,
Не ослабляя их оков.
О Русь! Русь! Долго ль втихомолку
Ты будешь плакать и стонать
И хищного в овчарне волка
«Отцом-надеждой» называть?
Когда, о Русь, ты перестанешь
Машиной фокусника быть?
Когда проснешься ты и встанешь,
Чтобы мучителям отмстить?
Проснись, о Русь! Восстань, родная!
Взгляни, что делают с тобой!
Твой царь, себя лишь охраняя,
Сам нарушает твой покой.
И сам в когтях своих сжимая
Простых и знатных, весь народ,
Рабов чиновных награждая,
Такое ж право им дает.
И раб разумно рассуждает:
«Я сам покорствую царю;
Коль он велит, то умолкает
Честь, разум, совесть; я творю.
И раб мой, ползая во прахе,
Пусть, что велю ему, творит:
Пусть в угнетении и страхе
И ум и совесть заглушит.
Он мой. Он должен отступиться
От прав, от чести, от всего…
Он для меня живете трудится;
Мои — плоды трудов его!»
И в силу мудрого решенья
Он мучит бедных мужиков,
Свои безумные веленья
Законом ставя для рабов.
Какой-нибудь крючок приказный.
За подлость «статского» схватив;
Солдат бессмысленный и грязный.
Дворянство силою добыв;
Князь промотавшийся, мильоны
Взяв за купеческой женой;
Безвестный немец, жид крещеный
Нажившись на Руси святой, —
Все ощущают вдруг стремлены
Душами ближних обладать,
Свое от высших униженье
Чтоб на подвластных вымещать.
И хладнокровно приступает
К позорной купле старый плут,
И люди братьев покупают! —
И люди братьев продают!..
Ужасный торг. Он — поношенье
Покупщикам и продавцам.
Царю и власти униженье,
Всему народу стыд и срам.
Какой закон, какое право
Торг этот могут оправдать?
Какие дикие уставы
Дозволят ближних продавать?
Не ты ль, наш царь, с негодованьем
Продажу негров порицал?
Филантропическим воззваньем
Не ты ль Европу удивлял?
А между тем, в твоей России
Не негры — пленники войны,
Свои славяне коренные
На гнусный торг обречены.
Скажите, русские дворяне,
Какой же бог закон изрек,
Что к рабству созданы крестьяне
И что мужик не человек?..
Весь организм простолюдина
Устроен так же, как у вас,
Грубей он, правда, дворянина,
Зато и крепче во сто раз.
Как вы, и душу он имеет,
В нем ум, желанья, чувства есть:
Он ложь высказывать не смеет,
Но и за это — вам же честь!
Свободы мысли и желанья
Его лишили; этот дар,
Всех человеком достоянье,
Ему неведом: он товар.
О нем спокойно утверждают,
Что рабство у него в крови,
И те же люди прославляют
Ученье братства и любви.
Сыны любимые христовы,
Они евангелие чтут
И однокровного родного
Позорно в рабство продают.
И что за рабство! Цепь мучений,
Лишений, горя и забот;
Не много светлых исключений
Представит горький наш народ.
Все в угнетеньи, все страдает,
Но все трепещет и молчит,
Лишь втайне слезы проливает
Да тихо жалобы твердит.
Но ни любви, и состраданья
Нет в наших барах-палачах,
Как нет природного сознанья
О человеческих правах.
На грусть, на плач простолюдина;
Они с презрением глядят;
Раб — это в их руках машина,
Они вертят ей, как хотят.
Помещик в карты проиграет, —
Завел машину: «Дай оброк!»,
И раб последнее сбирает,
Скрыв в сердце горестный упрек.
Но если бедный, разоренный
Неурожаем мужичок,
Большой семьей обремененный.
Не в силах выплатить оброк?
Так что ж! пусть мерзнет, голодает,
Пусть ходит по миру с семьей;
Свои права помещик знает
Над крепостной своей душой:
Он у раба возьмет корову,
Отнимет лошадь, хлеб продаст
И в назидание сурово
Ему припарку в спину даст.
И раб покорен, как машина,
Но хочет он и есть и пить,
И не во власти господина
В нем чувства тела истребить.
Меж тем и хлеб дневной не может
Он, как хотелось бы, иметь:
Гнилую корку часто гложет,
Пустые щи — его обед.
Изба, соломою покрыта,
В ней тараканы, душь и смрад, —
И вот все доброе забыто,
Мужик пускается в разврат.
Пустеет хата, плачут дети.
Муж с горя пьет, да бьет их мать;
Не силен страх господской плети —
У них уж нечего отнять.
И, наконец, мужик несчастный.
Уже негодный для господ,
Для муки новой и ужасной
К царю в солдаты попадет.
Еще счастлив, когда он может
Мгновенно в битве умереть.
Но чаще в гроб его уложат
Труд, бедность, горе, розги, плеть.
Одно лишь крепкое сложенье.
Да мысль, что так велит судьба,
С привычкой давнею к терпенью
Спасают русского раба.
Лишь русский столько истязаний
С терпеньем может выносить,
Лишь он среди таких страданий
Спокойно может еще жить.
Но есть ужасные мученья.
Невмочь и русскому они,
И большей части населенья
Они в России суждены.
Проступок легкий и ничтожный
И даже мнимая вина,
В чем мысль и правду видеть можно.
Всегда жестоко казнена.
Не может барину свободно
Всей правды высказать мужик;
Не может мыслить благородно,
Боясь бессовестных владык.
Не может барину ответить
На вздор и грубости его;
Не смеет даже он приметить
Уничиженья своего.
Владеть имуществом не смеет,
Не волен даже сам в себе,
Затем, что барин им владеет.
Он господин в его судьбе.
И даже брачных наслаждений
Раб часто барином лишен:
Тиран для скотских похотений
Берет детей, берет их жен.
Считая барина священным,
Каким-то высшим существом,
Мужик пред деспотом презренным
Поникнет телом и умом.
А тот собаками для шутки
Начнет несчастного травить;
Велит в мешок на трои сутки
По горло вплоть его зашить.
Иль на дворе в крещенский холод
Водой морозной обольет,
Или на жажду и на голод
Дня три-четыре предает;
Заставит голыми руками
Из печки угли выгребать
Иль раскаленными щипцами
На теле кожу прижигать;
Льет кипяток ему на руки,
Сечет плетьми по животу…
Но все их казни, все их муки
Я никогда не перечту.
Одну ужасную картину
Запомнил я до этих пор,
Как раз к вельможе-господину
Рабы явились на позор.
С тупым, но злобным выраженьем,
С самодовольствием в лице,
К рабам проникнутый презреньем,,
Сидел он гордо на крыльце.
И вот идут к нему в ворота,
Без шапок, кучка мужиков;
Грызет их бедность и забота.
Довольства нет в них и следов.
Печально, робкими шагами
Они к тирану их идут,
Стараясь угадать глазами,
Что, гнев иль милость, в нем найдут.
«Скоты! все станьте на колена!» —
Вдруг крикнул барин. Мужики
Со страхом падают; их члены
Дрожат, и чувства их горьки.
Они пришли сюда с прошеньем,
Чтоб их палач повременил
Оброк с них драть с ожесточеньем,
Но сразу он их поразил.
Все в землю стукаются лбами
И на коленях все ползут.
Зачем? они не знают сами,
Им на язык слова нейдут.
А он, смотря на них спесиво,
Дает им ближе подползать,
И, точно папа, горделиво
Велит сапог свой лобызать.
Все исполняют. Лишь несчастный
Один остался средь двора
И стал, бессмысленный, бесстрастный…
Теперь пришла его пора.
«Сюда!» — прикрикнул барин гневно.
Земной поклон ему мужик
И говорит ему плачевно:
«Отсохни, барин, мой язык!
Ей-богу, ноженьки разбило,
Тронуться с места не могу!
Я чуть доплелся. Кабы сила,
Тогда я первый прибегу».
С лицом больным, изнеможенным,
Дрожащий, бледный и худой,
Со взором тусклым, помраченным,
Был жалок он своей тоской.
Но барин крикнул: «Притащите
Его ко мне!» И вот мужик
Притащен. — «Барин, пощадите!»
Но он щадить их не привык.
Вскочив, он начал кулаками
Бить в грудь и в щеки мужика
И, сбивши с ног, топтал ногами,
Толкал пинками под бока;
Потом за чуб поднял и снова
Его хлестать стал по щекам
И, в кровь избивши, чуть живого
На руки бросил мужикам
И приказал, чтоб двести палок
Ему приказчик завтра дал,
Но завтра раб был меньше жалок:
Несчастный завтра не видал…
Запомнил я в душе смятенной
Его страдальческую тень…
Зовет она борьбы священной,
Суда и мщенья грозный день.
И, может, дружным, громким криком
Ответит Русь на этот зов,
И во дворянстве полудиком
Взволнует он гнилую кровь.
И раб, тиранством угнетенный,
Вдруг из апатии тупой
Освободясь, прервет свой сонный,
Свой летаргический покой,
И встанет он в сознаньи права,
Свободной мыслью вдохновлен,
И гордых деспотов уставы,
Быть может, в прах низвергнет он.
Отмстит он им порабощенье
Свободы разных им людей,
Свои беды и поношенье
Крестьянских жен и дочерей.
Восстанет он, разить готовый
Врагов свободы и добра, —
И для России жизни новой
Придет желанная пора.
Уже в ней семя мысли зреет,
Стал чуток прежний мертвый сон,
Зарей свободы пламенеет
Столь прежде мрачный небосклон.
И друг за другом грезы ночи
При свете мысли прочь летят,
И все бледней и все короче
Видений сонных пестрый ряд
Без малодушия, боязни
Уж раб на барина восстал
И, не страшась позорной казни,
Топор на деспота поднял.
Вооружившись на тиранство,
Он вышел с ним на смертный бой
И беззаконному дворянству
Дал вызов гордый и прямой.
За право собственности личной,
За душу, наконец, он встал:
«Я не товар для вас обычный,
Душа — моя! — он им сказал. —
Протек для русского народа
Тьмы и тиранства долгий век!
Я жить хочу! хочу свободы!
Я равен вам, я — человек!»
И пусть со всех концов отчизны
То слово мощно прозвучит,
Пусть всех разбудит к новой жизни
И гибель рабству возвестит!
И пусть элодеи затрепещут
И в прахе сгибнут навсегда,
И ярким светом пусть заблещет
Величья русского звезда.
Вставай же, Русь, на подвиг славы, —
Борьба велика и свята!..
Возьми свое святое право
У подлых рыцарей кнута…
Она пойдет!.. Она восстанет,
Святым сознанием полна,
И целый мир тревожно взглянет
На вольной славы знамена.
С каким восторгом и волненьем
Твои полки увижу я!
О Русь! с каким благоговеньем
Народы взглянут на тебя,
Когда, сорвав свои оковы,
Уж не ребенком иль рабом,
А вольным мужем жизни новой
Предстанешь ты пред их судом.
Тогда республикою стройной,
В величьи благородных чувств,
Могучий, славный и спокойный,
В красе познаний и искусств
Глазам Европы изумленной
Предстанет русский исполин,
И на Руси освобожденной
Явится русский гражданин.
И в царстве знаний и свободы
Любовь и правда процветут,
И просвещенные народы
Нам братски руку подадут.
Вы сейчас читаете стих Дума при гробе Оленина, поэта Добролюбов Николай Александрович
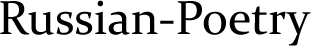


 (2 votes, average: 3,50 out of 5)
(2 votes, average: 3,50 out of 5)