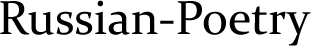1. Над Ладогой на длинном стебле расцветает солнце. Озеро не ораторствует, оно только цитирует маленькие волны, одни похожи на маленькие купола, другие — на маленькие колокола. На берегу валуны сверкают, как маяки. Тюлени плавают в недрах влаги, торпедируя сети: они отъедают головы сладким сигам, а туловища оставляют. Иногда эта операция увенчивается триумфом тюленей, иногда результаты ее плачевны: рыбаки вынимают тюленей одновременно с рыбой. 2. На девяносто четвертом году декан исторического факультета Иван Матвеевич Скрябин удалился на пенсию (догадался!). Его жена-полиглот Нина Ильинична своеобразно внимала соображениям мужа. Муж соображал: — Ты провела минуты молодости в этой деревне. Я проштудировал материалы: деревня приличная, три исторических памятника, представляющих плюс к исторической и культурную ценность. Но Нина Ильинична своеобразно воспринимала глаголы декана. Минуты молодости! Первый муж Нины Ильиничны прошел две фазы творческого развития в этой деревне: офицер белой гвардии, — до Революции, сторож — позднее. Он был расстрелян в 30-м году как фальшивомонетчик. Нина Ильинична узнала об этом после расстрела. С испугу она убежала в город и выучилась на полиглота. А опасения Нины Ильиничны были неблагоразумны: в деревне старухи поумирали, а старики — подавно. Ее никто не помнил. Декан и его жена-полиглот были банальны, как все деканы и полиглоты. Они рассуждали на двадцати четырех языках Европы и Азии, двадцать четыре часа в сутки, произнося по двадцать четыре слова в двадцать четвертой степени в час. Они приобрели бревенчатый домик и привезли из Ленинграда кота. Кота звали Маймун. Его не кастрировали, ибо этот процесс оскорбителен для животного мира. Но… три года юноша-кот не знал кошек. Три года Маймун подозревал о существовании кошек и безрезультатно молился кошачьим богам, чтобы они предоставили случай, оправдывающий подозрения Маймуна. И когда на бледные окна кухни наползали большие и теплые капли апреля, кот зверел от желаний. Он отказывался посещать коробку с песком, окропляя демонстративно туфли хозяев — туфли ночные, туфли вечерние и повседневные туфли. — Хилый комнатный кот! — отзывался декан исторического факультета. Поселившись в деревне, супруги не понимали, зачем они поселились в деревне: осуществлять обеспеченную старость или оберегать кота от посягательств действительности, не отпуская кота ни на секунду. И однажды: Маймун, пронырнув подвальное помещение, очень медленно вышел на улицу и — осмотрелся. Хилый комнатный кот за четыре часа приключений растерзал: шестерых деревенских котов, четырех деревенских собак, девять куриц и уток. Он уже приглянул и быка, но велик и угрюм, точно викинг, был бык-производитель, И Маймун справедливо решил обождать с порабощеньем быка. Возмущенные женщины и рыбаки оккупировали бревенчатый домик. Страшный кот был загнан в подвальное помещение. Но отныне Маймун маршировал по помещению, как шерстяной маршал. Деревенские кошки, пронюхав о легендарной отваге кота из большого промышленного центра, посещали Маймуна поодиночке. Они не рассказывали деревенским котам о черной, как у черного лебедя перья, — шерсти Маймуна, о белых, как у белого лебедя перья, — усах Маймуна. 3. По Староладожскому каналу происходил сенокос. Колокольчики — маленькие поднебесные люстры — излучали оттенки неба. Скакали кузнечики. Величиной и звучаньем они приближались к секундам. Ползали пчелы — миниатюрные зебры на крыльях. На васильки жар возлагал дрему. Лютики созерцали сенокос, и не моргали их ослепительно-желтые очи. Бледноволосые женщины травы июля свергали. В медленном небе сверкали, как белые молнии, косы. Отчаливали возы, груженые сеном. (Каждый воз — тридцать пудов сеноизмещеньем). Клава, единственная портниха деревни, положила косу и раздраженно пробормотала неопределенно-личную фразу. Она отработала нормы совхоза. Она не имела — единственная в деревне — собственную корову, косить на продажу — единственная в деревне — она не желала. Она положила косу и поковыляла в деревню. Это сомнительное положение портнихи заканчивалось невеселым: она напивалась. Клавдия шила великолепно и много, а с позапрошлой весны шила меньше и аляповато. Так, позабывшись или с похмелья Клавдия сшила бабам деревни сугубо мужские брюки с ширинкой. Все хохотали, но брюки носили. — А-я-яй! — покачал поросячьим лицом Шлепаков, накосивший уже девятнадцать возов на продажу. Вот что, покачивая поросячьим лицом, рассказывал Шлепаков: — Это было в начале девятьсот сорок третьего года. Я служил шофером на «Дороге жизни». Я человек скромный, однако опасности мы хлебнули. Потом я попал в одну пулеметную роту с Клавой. Я человек скромный, однако имеет место существование факта я был первым пулеметчиком; в газетах писали, что я — образец пулеметчика на Ленинградском фронте. Клава была второй пулеметчицей, да и беременная. Мы обороняли энную высоту. Надвигались фашистские танки. Все погибли, проявив, разумеется героизм. Остались: я — раненый и Клава — беременная. Я приказал ей: — Беги, у тебя ребенок. Она убежала, потом родила, иначе погибли бы оба. Мне присвоили званье и орден. Вы уж извините мои неделикатные впечатленья о моем героическом прошлом. Вот что, покачивая поросячьим соболезнующим лицом, рассказывал Шлепаков, а вот что было на самом деле. Во время блокады они колдовали с кладовщиком на продовольственном складе в Кобоне: где-то выискивали денатурат и вечерами «хлебали опасность». Потом Шлепаков попал в одну пулеметную роту с Клавой. Она — пулеметчицей. Он хлеборезом. Они обороняли высоту № 2464. Шли танки, они переныривали пригорки, как бронированные кашалоты. Семь пулеметных расчетов погибло. Шлепаков блевал от страха, прильнув поросячьим лицом к ответвленью окопа. Но уразумев, что семь пулеметных расчетов погибло, Шлепаков улизнул, и, прострелив себе несколько ребер, он, окровавленный, с изнемогающим взглядом был подобран санитарной овчаркой. Через десять минут после его исчезновенья Клавдия родила и попала в плен. Через четверо суток ее освободили советские части. Ребенка отправили в детский дом, а мать — на пять лет лагеря за то, что попала в плен. Шлепаков получил медаль «За отвагу». Знали: не бедно живет Шлепаков, бригадир рыболовецкой артели. (Он прибеднялся богато. В зимнее время, на райге рыбак зарабатывает двести рублей за несколько суток). Знали: женился сержант на девице с поросячьим лицом, и у них родились с поросячьими лицами дети. Знали: дом у них двухэтажный, огромный чердак, а также подвальное помещенье, то есть фактически — дом четырехэтажный. И на всех четырех этажах мебель наполнена тканями, мясом и овощами. Прошлой зимой Шлепаков приобрел фортепьяно. (Не замечали, чтоб в этой семье композиторы вырастали. Дочь в магазине работала, масло и хлеб распределяя по собственной инициативе. Кроме растительного масла, хлеба, галош, баклажанной икры да — изредка — керосина, — в том магазине ни при каких обстоятельствах прочих продуктов не наблюдали. Сын устроился егерем. По фантастическим малопонятным причинам, но с детективно таинственным видом, егерь взимал с охотников штрафы и его еще благодарили). Так и не выучился Шлепаков езде на велосипеде, но водил неразлучный велосипед на поводке, как эрдельтерьера. 4. Это — империя Куликова. Белые льдины горизонтальны и вертикальны. Деревянные ящики в капельках пота, как охлажденные бутылки. В ящиках — судаки заиндевели. И Куликов — император с алым лицом индюка — заиндевел. Он возвратился из концлагерей. Весил он 47 килограммов. Был он встречен: женой, мужем жены — ветеринаром, матерью, научившей невестку жизни в разлуке, и ребенком (не Куликова и не ветеринара). Вобщем, это была многообещающая встреча. Куликов ушел из деревни. Он проковылял три километра и упал, обессилев. Он был вылечен ветеринаром. Жена снова стала учительницей. Жили они молчаливо и вяло. Он весил уже 92 килограмма, заведовал рыбным складом и восемнадцать лет собирал свидетельские материалы, чтобы оформить развод. 5. — Это же историческая необходимость, извините, я хотел произнести: это же историческая ценность! Это же монумент старины, отголосок минувшего нашей державы! — Скрябин еще издавал разносторонние восклицания поочередно приподнимая одну и другую руку, как юнга, сигналящий флажками. Он кричал, и усы его шевелились, как щели связанных бревен. Он кричал на человека, уже пожилого. Это был наилучший рыбак из наилучших рыбаков Ладоги. Это был Крупнянский. Крупнянский отколупывал рыбьи чешуйки от штанин из брезента вечнозеленым ногтем с черным ободком и курил папиросу «Звездочка» и, прищурив ресницы, маленькие, как пыльца растений, повторял монотонно, как неисправимый школьник: — Ну и что? — Как: «ну и что»? — взвивался декан. — Согласись и признайся: твое поведенье преступно. — Ну и что? — «Ну и что», «ну и что», — все выше взвивался декан исторического факультета. И казалось: еще несколько раз услышит декан «ну и что» — он взвовьется уже окончательно, будет парить, белоусый орел, удаляясь кругами в глубины прекрасного летнего неба. — Уразумей, — внушал декан рыбаку, — дом, который ты изуродовал лишними окнами, внеисторической крышей и отвратительным хлевом — это ДОМИК ПЕТРА! Это РЕЛИКВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ! Это Петр основал вашу деревню. Это Петр, ваш канал прорывая, израсходовал собственную физическую энергию, чтобы: Все флаги в гости будут к нам И запируем на просторе! — И запируем! — неожиданно и оживленно согласился Крупнянский. Он вынул из брезентовой штанины бутылку «Старки», из другой штанины он вынул: кусок хлеба, две горсти маленьких шкварок и маленькую «Московской». — И запируем на просторе! — заулыбался рыбак, продолжая обстоятельную беседу. Рыбак пировал, И Скрябин — диетик, ухватив десятью великолепно умытыми пальцами оба уса, выслушивал рыбака: то сочувственно, то окрыленно. И когда: опустошенная «маленькая» полетела в канал, посвистывая, наподобие чайки, и поплыла по каналу, как гадкий утенок — вот что рассказал Крупнянский (они сидели на лавке, прибитой к пристани двумя гвоздями — гигантами. Мимо них проплывали моторные лодки, груженые сеном, похожие на ежей палеолита, с нежно-зелеными иглами сена и тресты. Мимо них пробегали собаки, не лая, почему-то все красно-желтого цвета, как лисы. Мимо них пролетали стрекозы и крылья их были невидимы, только узкое туловище и вертящаяся, как пропеллер, головка). 6. Вот что рассказал Крупнянский. Это было, когда император вдоль свежевырытого канала возле каждой деревни построил казармы из камня и каменные мосты. Это было, когда пастух Андрей Лебедь появился в деревне на удивительно целой телеге, запряженной откормленными на удивленье бесчисленными лошадьми. Это было, когда населенье деревни — раскольники и рыбаки и женщины раскольников и рыбаков, — сгруппировались вокруг удивительно целой телеги, а пастух откинул рогожу: телега была полна золотых монет и слитков. Онемела деревня. Костлявый, как дерево, Лебедь, и четыре костлявых его лебединых брата построили церковь. Они объясняли: построили церковь во искупленье грехов населенья деревни. У населенья деревни действительно существовали грехи. Но и телеге монет и слитков наводила на замечательные но и странные размышления. Но рассказ о следующих событиях. Это было, когда в деревне жил мужик — Федот Шевардин. Жил он в бане. Батрачил. На зиму сушил себе рыбу и лук. Он всю зиму питался рыбой и луком и пел одинокие песни. И в особо морозные ночи из трубы вместо домашнего дыма поднимались к чугунному зимнему небу его одинокие песни. — Это — волки! — пугались раскольники и рыбаки. Ухватив топоры, молотки и нововведенные пилы, они выбегали в нагольных тулупах за границы деревни. Этим временем волки тихонечко перегрызали телятам и бедным баранам дыхательные пути. Этим временем девки тихонечко прибегали к Федоту. Они приносили кто: пару поленьев, кто: хлеба, кто: несколько свежих яиц, кто и: мяса. Они оставляли продукты, но сами не оставались. Вернее, они изъявляли желание остаться, но батрак Шевардин очень вежливо их выпроваживал, объясняя, что он — обручен, а невеста будет в обиде. Все говорили: батрак — дурак. А батрак был мечтатель. Был он так одинок, что с тоски вырезал из кореньев фигуры, и даже скульптурную группу деревни вырезал из кореньев, и — умилялись, узнавая себя и соседа и даже собаку попа. Жила у Федота Шевардина лягушка. Она сидела на табурете в позе собаки. Она обращала к входящим прекрасные очи собаки. — Что ты нянчишься с этой тварью! — распоясался староста Пилигрим, — Времена легенд миновали! Не будет лягушка Царевной! Шевардин молчал. Шевардин возражать начальству стеснялся. Пилигрим подготовил уже поразительную матерщину, он приподнял язык… но увидев прекрасные очи лягушки, наполненные большими слезами обиды, почему-то язык опустил, сплюнул, и плевок попал на тулуп, он мерцал, замерзая. Пилигрим побежал по сугробам к жене и обильно плевался: бороду заплевал, и усы, и тулуп, и к жене прибежал, весь оплеванный и в оплеванном состоянии духа. Так семнадцать лет жил Шевардин с лягушкой. На семнадцатый год в установленный час прибыл Петр. Был он деятелен, повелевал, ел хлеб-соль, поощрял любознательных девок. Император фигурой и усом был похож на кота в сапогах, а лицом на сову. Вся деревня, не без юмора подстерегавшая превращенья лягушки в царевну, повела повелевающего Петра в баню. В установленный час лягушка сбросила шкуру. Как и предполагал Шевардин, она превратилась в царевну. Это было так обыкновенно, что никто не подумал упиться. Только потом долго уясняли это событье. А уяснять было нечего. Час настал — и лягушка стала царевной. и смешно и нелепо приписывать это естественное событие индивидуальным причинам. Так постигло несчастье: царя (царь обязан, как царь, жениться на единственной в государстве царевне), Шевардина (невозможно сожительство батрака и царицы), лягушку (по законам империй императрице — разделять с императором ложе и трон). Даже в наисказочнейшей деревне, при наисказочнейшей ситуации не могло произойти более нелепого финала. 7. — Что же дальше? — сказал опечаленный Скрябин, сопровождая полет опустошенной «Старки» образным выраженьем: бутылка летит, кувыркаясь, как поросенок, маленький и молочный и с узеньким рыльцем. Пробегали желто-красные звери, не лая, но не без интереса обнюхивая карманы. — Дальше? — подумал Крупнянский, доедая гусиные шкварки. Он уразумел, что так ничего и не уразумел декан исторического факультета. приподнялся Крупнянский, брезентовый гений, зашагал понемножку, а матерился помногу. — Ну, а бот великого Петра? Куда вы задевали бот? — обличал Крупнянского Скрябин. Но слова пролетали мимо знаменитого рыбака, как беззвучные пули, и улетали куда-то, вероятно, на лоно разнообразных пейзажей июля. — Черт вас возьми! — выражался Крупнянский, прибавляя к этим, в общем-то миролюбивым словам, другие. Рассказать бы декану эвакуированное возвращенье жены и четырех дочерей. Домик Петра — вот все, что сохранилось в деревне, и мы поселились. Чуть попоздней прискакал на «козле» товарищ из центра. Он убежденно и убедительно призывал к организации рыболовецкой бригады. Бот императора — все, что сохранилось от рыболовецкого флота. А товарищ приказывал немедленные результаты улова. Он для примера сам погрузился в бот императора. Мы умоляли его отказаться от экстренного эксперимента. Он стремительно повел бот в озеро. Он утонул, невзирая на всю свою убедительность и убежденность. Он утонул и утопил бот. Ибо на Ладоге были бронтиды, и никому не дано плавать в период бронтидов. 8. Дети постарше играли в футбол возле церкви. Дети поменьше играли в развалинах церкви. Не было у детей определенной игры: бег, восклицанья, дразнилки. Странно: века вековала нетронутой церковь. Службы служили, звонницы звон выполняли. Артиллерийский обстрел, авиационные бомбы все миновало церковь Андрея Лебедя. Церковь погибла от молний 9 мая 1945 года. Сгорела. Вживе остался только кирпичный каркас. Ладан сгорел, хоругви, алтарь, стихари, колокола, чаши, церковные облаченья, также сгорел распятый Христос, вырезанный из меди, но не сгорело распятье. А было оно деревянным. Поп, не сгоревший, как и кирпичный каркас, ежевечерне, пока не ополоумел, в церкви молился перед обугленным пятиметровым распятьем. До волосинки сгорел Иисус, вырезанный из меди, но контур его сохранился. Так и молился поп контуру Иисуса. 9. Маленький катер волок полтора километра бревен со скоростью двух километров в час по Новоладожскому каналу. Комары, как автоматчики, оцепили пристань. Красно-желтые псы виляли, не лая. Населенье деревни сгруппировалось на пристани. Кое-кто выражал свои мнения, но не для аудитории, а для соседа. Все ожидали теплоход (Новая Ладога — Ленинград) или как его романтично называли: КОРАБЛЬ. Женщины вынули самые красные платья. Мужчины сменили резиновые сапоги на брезентовые полуботинки. Царила мечтательная, эпическая атмосфера. И корабль подошел. Пришвартовался. Он дрожал, как пес из породы гончих. Капитан манипулировал картофельным носом. Он произносил в рупор слова повелительного наклоненья. Слова раздавались на пять километров в диаметре. Но рупор был выключен. Две студенточки сельскохозяйственного института (на практике) в одинаковых голубеньких брючках с декоративной дикцией произносили имена существительные, не склоняя: — Ресторан «Астория». Крейсер «Аврора» «Эрмитаж» ресторан «Нева» «Дом Кино» ленинградское отделение союза советские писателей, с декоративной дикцией, как два Лермонтовых, вздыхая о прошлом, они называли легендарные места Ленинграда, где как раз никогда не бывали. Корабль подрожал две минуты. И отчалил. Все друг другу взаимно кивали: персонал корабля и населенье деревни. и все это происходило по вечерам три раза в неделю с неослабеваемым интересом. Ранфиусовы — Шура и пять ее сыновей (Ранфиусов-отец зарабатывал детям на воспитанье на Братской ГЭС) веселились, наблюдая, как старший скакал на мизерном двухколесном велосипедике, заломив колени над рамой, как межконтинентальный кузнечик. Все ушли. Только двое сидели на параллельных перилах. Изгибы их спин выражали противоположное настроение. Это были Нонна и милиционер. Нонна, дочь попадьи и попа (попадья поколебала обильем плодов и ягод курс ленинградских базаров. Поп играл на гитаре в однозвучном оркестре клуба). Нонна закончила школу с серебряной медалью. и попадья заявляла соседям: — Нонна невинна, как агнец из «Откровения Богослова». Вот результаты внешкольного воспитанья. — В месяце мае демобилизовался сержант музыкального взвода — медный мундир, мелодично пострижен. Так, увлеченная монологом сержанта о филигранных созвучиях флейты и бедной струне балалайки, в двух километрах от внешкольного воспитанья, Нонна забеременела. Нонну немедленно выдали замуж за местного милиционера. Нынче они проводили сержанта. Медный мундир заменил чугунный пиджак. На вечерней палубе корабля таял пиджак, как чаинка печали. Нонна была безразлична. Милиционер — ревновал. А из какой-то избы раздавался богатый физкультурными и спортивными эмоциями голос Озерова: — Вчера, в пятом туре международного товарищеского матча шахматистов Советского Союза и Югославии, пятую победу, на этот раз над Матуловичем, одержал Тайманов. Успешно сыграл и Корчной, принудивший к сдаче Ивкова. Советская команда уверенно ведет матч. 10. Только никто не увидел (кто увидел — не обратил вниманья) как восемнадцать часов оккупировали деревню, как наводнили часы тишину и разожгли восемнадцать сторожевых костров — невидимок. Это часы доили коров, придерживая за костяные короны. Это часы обогащали клубни и злаки, это часы поворачивали то один, то другой выключатель. Это часы около бани кололи лучину. Это они, восемнадцать часов, колебали младенческие коляски. Это уже, озаренное озеро переплывая, салютовал девятнадцатый час и ногти поблескивали, как линзы биноклей. Это уже за каналом маячил двадцатый. А был он художник. Он современность перебирал, превозмогая помарки. Медленно двигалась стрелка пера по циферблату бумаги.
Вы сейчас читаете стих Каталог дня, поэта Соснора В. А