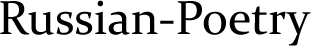Где, казак, твой голос зычный?
Вспомяни с народом,
что в песне бережем…
Был на Яике обычай
убивать перед походом
и детей, и жен.
Шевельнул старик усами
и присел в ковыль,
и пропел слезу-сказанье
про казачью быль.
Над станицей стон и ругань,
в чашах бражный мед…
Атаман Василий Гугня
уходил в поход.
Отточите сабли, други,
и грядущим днем
сядем с песней мы на струги,
Персию тряхнем.
Но набег, казак, не кухня
с тюрей аржаной.
Что ж ты делать будешь, Гугня,
с молодой женой?
Чай, милуется под палкой,
ждет свою звезду.
Отруби башку — татарка
сиганет в орду!
От красы отхлынуть трудно
и не можно жить.
Казаки гудели кругом:
— Семьи порешить!
Чтоб остались души светлыми,
чтоб не сдохли, как сурки.
Дабы пыток не изведали,
коль придут враги.
Атаман сидел набычась:
— Казните за вину,
я нарушу свят обычай —
не убью жену!
И взметнулся гогот вихрем,
вольный люд шалел.
Медовуху-Гугениху
Гугня пожалел!
Но скрипели буйно струги,
и над дрожью рек
голутву Василий Гугня
уводил в набег.
И впервые провожали
жены казаков,
и катилась бабья жалость
в соль солончаков.
Прозвенело лето птицей,
к пойме путь зарос,
прогремело над станицей
десять божьих гроз.
Не попал ли Гугня в полон,
не погиб ли друг,
не к нему ли хищный ворон
полетел на юг?
То на сердце жарко-жарко,
то на сердце лед.
Черноокая татарка
атамана ждет.
Сын родился славный, русый,
здоровяк, ревун…
Атаман в курень вернулся
через восемь лун.
Хром и худ, желтее воска…
где-то в ковыле
полегло казачье войско
на чужой земле.
Было горьким-горьким лихо,
но мерцал очаг,
пела тихо Гугениха:
— Баю-бай, казак!
Вы сейчас читаете стих Казацкая быль, поэта Машковцев Владилен Иванович