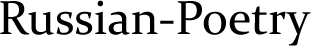1
Исповедь времени остро
зреет в одной судьбе,
и говорим мы просто
о товарищах, о себе.
Год сорок первый, видно,
в памяти не погас,
мы у горы Магнитной
вливались в рабочий класс.
Звезда пролетит над крышами
и печально сгорит,
чья-то юность возвышенно
нас опять повторит.
Повеет сурово смолами,
на заводе не мед,
но в горком комсомола
трепетно парень войдет.
Скажет он искренне, с жаром:
— Чести не уроню,
направьте меня сталеваром,
поставьте лицом к огню!
2
Мы начинали горше,
тяжелому память верна,
над сердцем кружило, как коршун,
жестокое слово — война.
Взъерошенных нас и голодных
через четыре земли
по-царски в телячьих вагонах
к Магнитной горе привезли.
Вспомним светлее и чище
старый вокзальчик средь луж
и тысячу двести мальчишьих
бог знает где собранных душ.
Мы с поезда прыгали ловко
с ремками, обличьем шпаны.
— Боже! — струхнула торговка,
накрывши подолом блины.
А мы окружали буйно,
толкаясь, крича и пыля,
временную трибуну
из грубого горбыля.
Смотрели волчатами, косо,
не видя начало начал:
Григорий Иванович Носов
нас на вокзале встречал.
Для несознательной бражки
был он почти что никто,
хотя и начальник — в фуражке
и в кожаном черном пальто.
В кругу неумытых буянов
стояли в обнимку друзья:
задира — Сережка Буранов,
Наташка Скворцова и я.
Должно быть, излишне явственно
показывал каждый из нас,
что мы не боимся начальственных,
серых, чуть выпуклых глаз.
Свистела толпа, кукарекала,
выделывала гопака.
Дрожала рука у директора
и дергалась странно щека.
Тогда комендант горячий
крикнул: — Кончай галдеж!
Кто же вы — стадо свинячье,
иль советская молодежь?
Мол, я вас построю по ротам,
проверю — приспеет час,
мало ли разного сброда
орудует среди вас.
Наверно, оратор напористый
выполнил долг вполне,
стала трибуночка полюсом
в пороховой тишине.
И чтоб не возникло вопросов,
в момент объявил комендант:
— Директор, товарищ Носов,
сделает вам доклад!
И глянул директор букой,
и кто-то услышал, как
он коменданту буркнул:
— Ты, братец, однако, дурак!
Нас потянуло в зевоту,
ждали трибунных баляс,
но речью директор завода
толпу во мгновенье потряс.
Старшой наш, путиловский слесарь,
камнем к земле прирос:
директор, ей-богу, как Цезарь,
три слова всего произнес.
И мы повторяли их снова,
будто чеканили в медь,
три государственных слова:
— Помыть, накормить и одеть!
Тянулись к директору руки,
горланила ребятня:
— Запишите меня в металлурги!
— Пристройте на домну меня!
3
Земля моя недругам снится,
но ведает враг и наймит:
сверкнет над Россией зарница,
над миром — гроза прогремит!
На юность не делая скидки,
мальчишками встав к огню,
мы в годы войны на Магнитке
ковали для танков броню.
Мы сами горели, как в тигле,
на робах — мазут и соль,
но не сразу постигли
свою высокую роль.
Манны небесной не требуя,
вершиной довольства и благ
считали мы карточки хлебные
и синеглазый барак.
В дни, может, самые черные,
у заводских проходных
с улыбкой подружкам-девчонкам
дарили как лакомство — жмых.
И от безделья не кисли,
эпоха брала в оборот,
заветнее не было мысли —
цех бросить, уйти на фронт!
Закрыла пути-дорожки
цепко работа-смола,
но у меня и Сережки
тайная думка была:
сбежать, отличиться в баталиях
и наяву, а не в снах —
перед Скворцовой Натальей
прощеголять в орденах.
Так мы и жили, тревожно,
горько обиду неся, —
работать мальчишкам можно,
а воевать нельзя!
4
Взрывались, хронометром токая,
сводки информбюро,
пушинки летели с тополя,
будто лебяжье перо.
И воробьишка чирикал,
нахохлившись от жары,
качалась седая чилига
у склона Магнитной горы.
Составы по рельсам летели,
рвал душу высокий накал…
две долгих-предолгих недели
Наташки я избегал.
Кто ж незадачливых любит?
Был я неказистей всех,
послали меня на блюминг,
гордись, мол, горячий цех!
Но ожиданья обмануты,
и загремели лютей
огнеязыкие мамонты —
семь прокатных клетей.
Я, как опенок, сморщился,
не дали катать металл,
у тети Глаши, уборщицы,
я заместителем стал.
И кто-то шепнул наветно:
— Она ничего так, но…
по слухам, супруг этой ведьмы
конюхом был у Махно!
Тогда, никому не переча,
сразу я сник и поблек,
с наставницей первая встреча
запомнилась мне навек.
Смотрел я, глазам не веря,
как с бубенцом — с ведром,
тело протиснув в двери,
выплыла баба-гром.
С виду весьма свирепа,
в нелепом суконном чепце,
нос, как вареная репа,
на круглом рябом лице.
Но брови подбриты, гуашью
линия наведена.
— Зови меня тетей Глашей! —
басом сказала она.
И дабы я стать богатырью
лучше почувствовать мог,
кулак свой с пудовую гирю
игриво уперла в бок.
Мол, сколь тебе, цуцик, годиков,
губы еще в молоке.
Знай — вся моя педагогика
в этом вот кулаке!
Я и не думал чваниться,
но заалел, как мак,
когда при народе начальница
дала мне понюхать кулак.
А в завершенье не женственно
в каком-то грязном углу
тетя Глафира торжественно
преподнесла мне метлу.
— Бери-ка лопату и тачку,
бездельников не терплю,
ежли проявишь артачку,
титькой, щенок, задавлю!
И словно бы околдован,
с оглядкой торопкой, не злой,
под хохот бригады, как клоун,
споткнувшись, упал я с метлой.
А мастер острил на пульте:
— Дороги светлым-светлы,
порой и великие люди
жизнь начинают с метлы!
Зная свою задачу,
великим быть не стремясь,
грузил я окалину в тачку,
выгребал из пролетов грязь.
Как на стеклышке — на примете
был усерднее день ото дня,
и за это в стенной газете
пропечатали как-то меня.
Сунув мне пирожок с капустой,
с отголоском неясных обид
тетя Глаша сказала грустно:
— Ты теперича знаменит!
И махнула рукой сердито,
не скрывая природный пыл:
— Я ведь тоже не лыком шита,
а мужик мой чапаевцем был!
И вздохнула: — Горя-то сколько,
чую, сгинет он, больно бедов,
улетел на войну соколик
и оставил мне восемь ртов.
Подружились мы с тетей Глашей,
улыбалась она: — Орел!
Стали дни светлее и краше,
словно в жизни я что-то обрел.
И метла не казалась тяжкой,
и в затайке не было зла,
но смятенье Скворцова Наташка
с птичьим смехом в цех принесла.
Я, в жаре разомлев, сутуло
подметал переходный мосток,
или ветром девку задуло,
или дьявол ее приволок.
Косы — золото, платье — белое,
синь раскосых, оленьих глаз…
Поклонилась она мне, делая
восхитительный реверанс.
И кривляясь, словно затейник,
припаяла словцо к словцу:
— О, к лицу тебе, рыцарь, веник,
а серьезность тебе не к лицу!
Огорчаться, мой милый, рано,
да и чать не один ты такой,
друг твой ситный Сергей Буранов
возле домны пылит метлой.
Верь, что все уладится вскоре
по законам житья-бытья,
у меня вот действительно горе:
понимаешь — влюбилась я!
…И дрогнули спелые косы,
и день щемяще погас,
и хлынули синие слезы
из девичьих синих глаз.
Сразу спросить бы, но страшно,
стоял я, метлу теребя…
— В кого же ты влюбилась, Наташка?
— Конечно же, дурень, в тебя!
И хохотали громами
над миром трагедий, страстей
семь черных железных мамонтов,
семь прокатных клетей.
5
Эх, кому — война,
А кому — мать родна!
Мы, ненавидя жгуче
тех, кто приносит вред,
тунеядцев ловить на толкучке
шли в комсомольский рейд.
Разбираясь в технике слабо
и продукт не ценя добром,
продавала подшипник баба,
нищий дед предлагал гудрон.
На прилавках гайки, как финики,
электропровод-голяк,
были свеженькие напильники,
золотистая охра в кулях.
Но казался всего роскошней
ширпотреб предприимчивых рук:
жаровни — литые из поршней,
кровати — сварные из труб.
И вправду, кому — война,
а кому — мать родна!
На рынке тот дядька мордастый
в избытке здоровья и сил:
— Есть такая химпаста! —
всю войну голосил.
Выкатывался из пасти
жирный зазывный крик,
но, видимо, на химпасте
бизнес был не велик.
И пророча сквозь зубы
свиданья, богатство, покой
дядька предсказывал судьбы
при помощи свинки морской.
Возьмет прорицатель рублевку,
дабы раскрылся секрет,
и свинка зубами ловко
из ящичка вынет конверт.
И станет желанное близко,
и к счастью иди напрямик,
обманет вещунья-записка,
но успокоит на миг.
С дощатой уборной рядом,
ухо и глаз навостре,
дядька к мартенам задом
стоял на базарном бугре.
Ловчил дядька сытости ради,
но детей воспитал,
сыночек у этого дяди
интеллигентом стал.
А шастал с отцом ушастый,
бубнил, отвесив губу:
— Выводим пятна химпастой,
предсказываем судьбу!
6
Не ждал я в судьбе поворота,
не был особо везуч,
но главный механик завода
доверил мне гаечный ключ.
Мудря над колонкою чисел,
в чуб запустив пятерню,
механик катать замыслил
танковую броню.
Извелся в те дни начальник,
эксперименты кляня:
— Рискует Рыженко, механик,
а покарают меня!
…И подливали хлюпики
масла к тому огню:
— Только вредитель на блюминге
решится катать броню! —
Каркали, что ли, усердно,
блюминг загрохал и встал,
схватился начальник за сердце
и, побледнев, упал,
и умер без жалоб и крика,
болея за цех, за дела…
Погиб человек, а заминка
случайной и мелкой была.
Но осуждать его трудно,
по-своему всяк обожжен,
для мудрого смерть не подсудна,
и думать живым о живом.
Двигала нами не выгода,
желание все одолеть,
в цехе семь суток без выхода
мы к пуску готовили клеть.
И сидя, урывками спали,
и жили мы в мире ином,
как в битве, держались парни,
горели единым огнем.
Знали: мера труда — не деньги,
и для каждого совесть — суд.
Приносила нам Глаша в бадейке
горячий питательный суп.
Считая кормежку сносной,
центровала бригада вал.
Григорий Иванович Носов
в тот вечер у нас побывал.
Сбросил устало фуражку,
испробовал ложкой супцу,
вздохнул по-директорски тяжко,
тень прошла по лицу.
Ну что же наваришь из проса,
смешанного с водой?
Директор творение орса
назвал, извините, бурдой.
И, как между прочим, вставил,
спокойствие сохраня:
— Звонил мне товарищ Сталин,
фронту нужна броня!
…И час испытания грянул,
и затрубил слитковоз,
и масло машинное пряно
гарью ударило в нос.
Огражденьем, как сбруей, опутан,
проявляя рывок и задор,
заревел от восторга за пультом
озверевший стосильный мотор.
Выли колодцы вулканно,
выбрасывая огневерть,
и, слиток жуя валками,
подземно стонала клеть.
Как в бронзе отлитые заживо,
стояли мы в миг огневой,
и полыхал оранжево
первый лист броневой!
7
Сердце пылало ало,
врезая во времени след.
Родина нас называла
юностью огненных лет.
Когда-нибудь я ровесников
по именам назову,
девочек из ремесленного,
мальчишек из ФЗУ.
Они, родниково чистые,
не думали наверняка,
что вырастут — станут министрами
и членами ЦК.
С ними я в смене прошлой
работал по мере сил
и с деревянной подошвой
ботинки-колодки носил.
Но мы про себя заметили
не то, что жилось тяжело,
а что совершеннолетие
в четырнадцать к нам пришло.
В киножурнале с экрана
чубато качнул головой
друг мой Сергей Буранов,
доменщик-горновой.
Сияюща и пунцова,
боясь, что в бараке сопрут,
носила Наташка Скворцова
медаль за доблестный труд.
Девичьи хрупкие руки…
на что же способны они?
Наташка работала в группе
по испытанью брони.
Оркестры не славили медно
мой невеликий путь,
но вырос и я незаметно
и встал у огня за пульт.
На каждую смену трубно
звал нас гудками завод,
самым бесхлебным и трудным
был этот военный год.
И чтобы стремился каждый
иметь хозяйство и кров,
привезли в Магнитку однажды
восемь дойных коров.
Хоть я недогадливым не был,
но прямо скажу, без прикрас:
громом средь ясного неба
директорский грянул приказ.
За то, что мы были первыми,
особо — за план по броне,
директор в порядке премии
выдал корову… мне.
Рога, как в янтарном масле,
с дымкой спиральной, в резьбу.
Гладкая, красной масти,
со звездочкой белой на лбу.
Ведерное вымя округло,
парным молоком кипит,
кивают сосцы упруго
при важном уступе копыт.
Породиста, чистокровна
и, как дворянка, горла.
Такой симпатичной коровы
я не встречал никогда.
И рассудите сами —
выиграл я вдвойне,
известностью и состоянием
явилась буренка ко мне.
Мы достигаем не часто
в жизни подобных вершин…
И одурев от богатства,
в тот день я жениться решил.
Таща за собой корову,
весело и горячо
шел я к Наташке Скворцовой
с веревкой через плечо.
И у заветного места,
возле карагача,
сидела моя невеста,
на старой гитаре бренча.
Скосил я ревниво взглядом:
как будто уйдя от дел,
с ней на скамейке рядом
хмуро директор сидел.
Рослый и крупнорукий,
блестя сединой виска,
он по-солдатски окурки
гасил о каблук сапога.
Я уже знал уверенно,
о чем говорили они:
не очень комиссия верила
в новую марку брони.
Наташка глянула шало…
Почуяв с водою чан,
шумно корова дышала,
а я, растерявшись, молчал.
Вечер катился на ночь,
полынно-медов и тих.
Сказал мне Григорий Иванович:
— Здравствуйте, жених!
А невеста без оговорки
в тот же миг мне испортила жизнь:
— Вижу, ты от коровы в восторге,
на корове, мой друг, и женись!
8
Мы, как зернышки в жите,
как загадка тропы…
Почему мы, скажите,
не предвидим судьбы?
Жил в Магнитке мальчишка
в мире песен и книг,
был в плечах он не слишком,
ростом был не велик.
И вздыхал под Стожарами,
и, наверно, мечтал
он пойти в сталевары
плавить синий металл.
В сердце радостно пела
молодая струна,
но огнем загремела
над Россией война.
Парень был комсомольцем,
рос у всех на виду,
он ушел добровольцем
в сорок первом году.
Верил собственным силам,
как верят в семнадцать лет,
возле сердца хранил он
комсомольский билет.
Сталью грохали пушки
в тополиную грусть,
но писал он подружке:
жди, родная, вернусь!
Был он весел на марше
у сгоревшей избы,
ни солдаты, ни маршалы
не предвидят судьбы.
На броске ослепило
от сигнальных ракет,
злая пуля пробила
комсомольский билет.
На оглохшие вспышки
и безмолвия гул
обожженный парнишка,
покачнувшись, шагнул.
Побледневший и всклоченный
на пустом берегу
он последнюю очередь
дал по врагу.
Под днепровскою крутью
автомат уронил,
но простреленной грудью
он страну заслонил.
Над песчаной могилой
То снега, то дожди,
А письмо говорило:
— Я люблю тебя, жди! —
Мы сражаемся, строим,
рождены для борьбы,
только жаль, что герои
не предвидят судьбы!
9
Мы все были разными в чем-то,
но душу пронзила дрожь,
когда на мартене девчонка
бросилась в огненный ковш.
Решенье составив заранее,
не будоража умы,
на комсомольском собрании
ту смерть заклеймили мы.
И развернулось знамя,
будто готовясь в бросок,
когда выступал перед нами
с пламенной речью комсорг.
— На пулеметное дуло
бросался в атаке герой,
а эта влюбленная дура
ослабила фронт трудовой!
И что же мы скажем людям
про этот любовный дурман?
Мы эту мещанку забудем
и перевыполним план!
Плыла за окном, будто крейсер,
в тот вечер Магнит-гора…
В зале, вскочив из кресел,
мы дружно кричали: — Ура!
И только Наташка шутила:
— Жесток и практичен свет,
все мы любим Шекспира
и не терпим Джульетт.
Вот чем доказал ты — коровой,
что ты меня полюбил!
В ту ночь я, обиженный кровно,
испортил двенадцать зубил.
По-своему бурно и прямо
я выразил чувства сполна,
и с неба мне, будто мама,
тепло улыбнулась луна.
Может, не очень красиво
вырубил я на скале:
«Спасибо, Наташка, спасибо
за то, что ты есть на земле!»
10
Будто горе чужое, негромко
причитала Глаша без слез:
— Бело перышко-похоронку
от соколика ветер принес…
Ох, покинул ты женушку кротку,
в поле тучном не сжал полосу,
не бросал бы, казаче, молодку,
на кого ж ты оставил красу?
Три войны ты рубился лихо,
но лежишь убитый во рву.
Я сушила траву-заманиху,
не нашла одолень-траву.
Боле милого я не встречу,
в семь колен прокляну врага,
упадут мои слезоньки в речку,
и затопит река берега.
Ох, ударю кресалом по кремню —
разольется огонь-полымь,
упадут мои стоны на землю —
прорастет в солонцах полынь.
Ой, да рядом с дорогой высокой
окаянное бродит зло,
за тобою, ясный мой сокол,
восемь сиротских троп пролегло.
Ох, зачем же в родну сторонку
из далеких степей и гроз
бело перышко-похоронку
от соколика ветер принес?
Довольны единой рубашкой,
жалея солдатку, как мать,
мы тогда порешили с Наташкой
тете Глаше корову отдать.
Тетя Глаша смущенья не прятала,
всхлипнула, сев на крыльцо,
заиграло красными пятнами
перерытое оспой лицо.
Глаша молвила: — Живность не лишняя
к положению моему,
токмо вы — не князья, я — не нищая…
и корову за так не возьму!
11
Дождинки упали на яшму,
гром рыкнул у горных излук…
Никто не заметил Наташку,
нырнувшую в танковый люк.
Для дела, залогом успеха,
чтоб лучше работать могли,
нас, представителей цеха,
на полигон привели.
Все птахи в окрестности смолкли,
волнения не передашь:
большая папаха с биноклем
спустилась в бетонный блиндаж.
Проникшись ответственным часом,
как помнится мне и теперь,
без робости мы за начальством
вошли за железную дверь.
Просмешники и балагуры —
мы чтили серьезный настрой,
и взгляд через щель амбразуры
для нас уже не был игрой.
Кружилась и плакала чайка,
ломая крыло на лету.
Мы ждали с тревогой начала,
предчувствуя сердцем беду.
Брызнув мерцающим светом,
нарушив минутный покой,
резко прошила ракета
пасмурь зеленой дугой.
Сигнальщик с гранитного камня
спеша оглядел полигон,
и клацнули пушки замками,
и двинулись танки вразгон.
Ползли, приседая, два танка
над сетью помятых траншей:
один — головной работяга,
другой на буксире — мишень.
Другой — на расстрел обреченный
для пробы, но все-таки бог…
что в танке-мишени девчонка
никто и подумать не мог.
Юность на подвиг готова,
но безрассудство сдержи,
Наташка, Наташа Скворцова —
мятежное пламя души.
Она, не любившая медлить,
стремилась навстречу огню:
— Я покажу, как не верить
в уральскую нашу броню!
И если погибну я, люди,
то смерть моя вам — не в укор…
Стреляли двенадцать орудий
по танку-мишени в упор.
Но шел он уверенно, ходко,
будто бы призванный жить,
будто прямая наводка
его не могла сокрушить.
И вздыбился бруствер на тучи,
свалился с травинки мураш —
заряд рикошетом, гремуче
тряхнул, как скорлупку, блиндаж.
Земля стала дикой и зыбкой,
но гарь унесло ветерком.
Крякнул с довольной улыбкой
и скомкал папаху нарком.
И порохом едко запахла
в бойницах лишайная цвель,
и кто-то восторженно ахнул:
— Не танк это, братцы, а зверь!
Неистов красавец, неистов,
пройдет через сорок преград,
дадим прикурить мы фашистам,
устроим второй Сталинград!
Все двигалось без перекосов,
но что-то бы вроде не так…
Григорий Иванович Носов
смотрел напряженно на танк.
Какой же он кован был сталью,
что было загадкою в нем?
Двенадцать калибров хлестали
по танку смертельным огнем.
Взрывался багровой купелью
в предгрозье упавший закат,
и пушки за гарью по цели
стреляли почти наугад.
Но не было выстрелов мимо,
и степь полыхала кругом,
а танк, как живой, невредимо
прошел через весь полигон.
Но дрогнули горные дали,
бинокли упали из рук,
когда на горбатом увале
открылся вдруг танковый люк.
Над круглой приземистой башней
и тьмой орудийного зла
девчонка — оглохшая, в саже,
отважно ромашкой взошла.
И разве забудешь такую
и вспомнишь о чем-то плохом?
Наташка Скворцова, ликуя,
яро взмахнула платком.
Летела она, как в атаку,
веря, что все ей простят…
И в это мгновенье по танку
ударил фугасный снаряд.
И мир опрокинулся шумом,
и боль захлестнула глаза…
На землю, ревя и бушуя,
обрушилась с неба гроза.
Расплакаться не было силы,
кипела чудовищно мгла —
беда мое сердце пронзила
и молнией кряжи прожгла.
В распадке по высверкам синим
сквозь стоны поникших берез
директор, шатаясь, под ливнем
Наташку до города нес.
Девчонка уснувшей казалась,
но белого снега белей
рука, повисая, касалась
былинных седых ковылей.
12
Горжусь, что живу на Урале,
работой пробил тропу…
А кто-то в заморском баре
предсказывает судьбу.
Барышники, экс-полицаи,
умельцы словечком вредить
учат меня, отрицают,
дабы себя утвердить.
Один верхогляд именитый
сбрехал как-то недругам в тон:
нет, мол, горы Магнитной,
есть яма на месте том!
Другой щелкоперчик быстрый,
двуликий, глумясь над святым,
сказал, что с «Авроры» выстрел
в семнадцатом был… холостым!
Дул ветер ленивый, кроткий,
в небе парили орлы,
взяли мы с другом водки,
взошли на вершину горы.
Грабарку водил, как тачанку,
чапаевец, строя завод…
Поднимем же добрую чарку
за тех, кто в Магнитке живет!
За первопроходцев степенных,
за их сыновей — комсомол,
за тех, кто поставил мартены
и город из камня возвел.
За тех, кто от вражеской пули
упал у Днепра на стерню,
за тех, кто, сгорая у пульта,
ковал для России броню.
За то, что мы глыбко и чисто
вливались в рабочий поток.
За то, что во мне коммуниста
открыл цеховой парторг.
За скалы, что взорваны толом,
за день, что сурово прожит,
за тот обелиск, под которым
Наташка Скворцова лежит.
Бурьян над могилами чалый
и много безвестных имен…
Поднимем же добрую чарку
за тех, кто Магниткой рожден!
За тех мы нальем, кто не сломлен,
кто крепче, чем камень-магнит,
за тех, кто сегодня у домен,
и тех, кто обидно забыт.
С огнем зарождаются песни,
с огнем зарождался металл,
и родины полюс железный
в поэзии полюсом стал.
Поднимем же добрую чарку
за первый барак и костры,
за трудную нашу причастность
к величью Магнитной горы!
Вы сейчас читаете стих Лицом к огню, поэта Машковцев Владилен Иванович