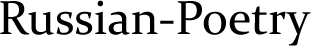(Часть первая) Господь меня кривиться умудрил и вышвырнул на растерзанье музам… Как серый вечер, старый гамадрил идет домой с портфелем и арбузом. Киноцефалия! Большой
Стихотворения поэта Петров Сергей Владимирович
Люди видели Тебя, и насказано так, что вся твоя парсуна дегтем мазана. Или это от забот дня рабочего набрехали, что Тебя скособочило? Чем же,
Хорошо поворожить во цвету под вишнями, да не шибко споро жить с годиками лишними. Хоть бы их помалу деть, а куда – не станется.
Я думаю иль кто-то мыслит мной? Рука с плечом мои? Или рычаг случайный? Я есмь лишь часть себя иль гость необычайный? Начало вечности или
Я Самсусам с продолгой бородой, которая бурнее, чем у Бога. Как музыкой, владею я бедой, не выпуская горя из острога. Ах, борода, ты, пенная
Злая полночь, и мороза жуть туманом разогрета. Шел сегодня Чимароза – Matrimonio segreto. Ах, летит за розой роза, вся в цветах моя карета! Эта
1. Прелюдия Чадит заря, как жирная жаровня, мясисто-липки вещи поутру. И кажется – ты мне по крови ровня, а может быть, и по нутру.
Осенний полдень дымчато-хрустален, и счастье за углом в полуверсте. Трепещет как пятнистый парус Таллинн, и камни стали словно на холсте. А в Кадриорге небо
На Московском ходит Вася. Звезды на небе густы. Парк Победы, раздавайся! Раздвигай свои кусты! Страсти некуда деваться, страсть ворчлива, как свекровь. Томка – добрая
Я думаю, я сам себе универсам, куда я захожу по надобностям разным. Открыт бываю я и людям, и часам, пространству грузному и хрупким чудесам,
Далеко и рядом, как за стенкой, ты живешь, не виданная мной, нежности блаженной уроженкой, дочерью юдоли неземной. Чувствую – к бокам притиснув локти, как
Пространство – словно дальняя вода, а время – сетка из бессмертной пряжи. Ползут невидимые невода и рвутся о зазубренные кряжи. И в петли забежавшая
На чухонском камне и трясине бесновался царственный топор. По монаршей дарственной Трезиний прямо к небу выводил собор. В Гаге, Копенгаге и в Стекольне бомбардиру
Я голой памятью сижу в своем уме, как в банной кадке поддавая пару, и смерти говорю, как медленной куме: с тобой не стану париться
Приклеен на дорожке лист каштана, и тучи посерелые в окне, и мнится, что во всей природе долгоштанной нет ничего навеянного мне. Не шевелюсь вблизи
I Из воды – на ненужный воздух, когда все ничему равно. (А вечер был в снегу и в звездах, когда тебя коснулось дно.) Плыло
Ишь, в тумане-то развелось их! Сквозь заиндевелый январь не на лапах, а на колесах стеклоглазая прется тварь. Что ей сделается, машине! Знай, пованивает сопло.
Слушай, душенька, – спи или кушай, не любуйся, голуба, со мной, не кидайся на шею кликушей: я по самые губы сумной. Иль не слышала
Я жизнь, как небылицу, наваракал в стихах. А рядом черный телефон уселся на столе и, как оракул, прокаркал: -! А я не По, не
Цветок прощаний и разлук, не прячась, но и не казотясь, глядит на разливанный луг голубоглазый миозотис. Он вечно свежий, как роса, готов пробраться и
В те дни, когда ужом мой дикий пращур еще не вился возле Перводрева и тело тощее тащил и плющил ящер, по животу земли распластывая
Я смерть как не люблю природы показной, и не поймут меня ни молнии, ни громы. Но я попал под августейший зной и в рыбьи
Все думаю о том, как я умру, подхваченный великой лиховертью, воспринимая смерть как жуткую игру, за коей следует мой путь к бессмертью. Не может
1 Я родился в Благовещенье. В этот день отчего-то птицы гнезда себе не свивают – и у птиц есть свои приметы. Что же я
Ходят вокруг налегке петербургские долгие ветры, осень без листьев стоит впусте на остром мысу. Белая биржа лежит, как груженная временем баржа, и на пустом
Я не люблю тебя. Но ты средь бездорожий и посредине валкого пути мне ног, и глаз, и костыля дороже, я без тебя в себе
Играешь в жизнь, не глядя в ноты. Бежит соната наизусть. Хохочет трель. Но все равно ты в игру подбрасываешь грусть. И вот до грани
Ночь плачет в августе, как Бог темным-темна. Горючая звезда скатилась в скорбном мраке. От дома моего до самого гумна земная тишина и мертвые собаки.
Платок мне не накинешь на роток. Я по-ребячески тружусь и строю, и вывожу по-русски городок, слепую крепостцу величиною с Трою. Еще хранят гроба тяжелые
Твои две груди – как смиренные колени, а страсть – как мясо ветер раскромсал. Но я пишу тебе, как некогда Елене писал задумчивый Ронсар.
Летний сад сквозит, как воздух, емкий, понабрался статуй и людей. На пруду с зеленою каемкой подают здесь свежих лебедей. Без лица, но чем-то длинноглаза,
Я у себя сижу бочком да с краю, тасую карты и на них гадаю. А толку что? Когда последний год наступит мне на горло
Жизнь моя облыжная, махов по сто на сто, перебежка лыжная по коростам наста. Но ты – в глазу проталинка, в беге – передышка, талая
Не болит и не хворается и живется беспредметно, понемножку умирается, безобидно, незаметно. Потихоньку, понемножечку, без иронии жеманной подцепляешь с блюдца ложечку несоленой каши манной.
Дай в новом году сгадать про невзгоду! Гляди, я кладу всю правду в колоду. Глядеться в окно душе не мешаю. Смотри, как смешно я
Как рабыня старого Востока, ластясь, покоряя и коря, муку и усладу сотворя, двигалась ты кротко и жестоко, вся в глазах усталого царя. Опустилась наземь
Нынче день какой-то полоротый, мой, чужой и все-таки ничей. Вижу я на Мойке повороты разогретых каменных плечей, чаек над водой лениво-скользкой и колонны княжеских
Вкруг пагоды висит осенняя погода на черных сучьях и на тусклых клочьях туч. У колеса времен совсем не стало хода, и бронзовый баран –
Кто тебя, игрушку, уволок из немого каменного рая? Не Господь ли, в шахматы играя, взял тебя за смирный куполок и приподнял, чтобы сделать ход,
С червивой ложью, с истиной костлявой, с кровавой кривдой, с правдой моровой шаталась ты по улицам шалавой и шлялась за бесстыжей доброй славой, не
Хожу я ужинать в столовую, куда валят под вечер лавою: откупорив белоголовую, я в рюмке, точно в море, плаваю. Сиди да знай себе поикивай,
Жизнь – костлявая катастрофа. Лодкой плавает в глине гроб. Словно вспученная Голгофа, чуть не лопнул от муки лоб. И лазурь в замогильном воске –
Про осень да про лето, про года времена зачем читать у Фета, зачем у Кузмина? На осень я не стану нацеливать перо, глядеть по
Ей-Богу, вид убогий за окном, и около коробки иль колоды идет с портфелем ежедневный гном, пустосердечный и густобородый, весьма разумный выкидыш природы. И вот,
Благоволение? Желание добра? Когда любой из глаз – зловонная дыра? Бездонная! Ну нет, на дне одной из впадин я вижу, Вечный Жид до жизни
Опять сижу в добре я по пояс, на благодушье разбазарясь, и только пузырями лопаюсь, на славную погоду зарясь. А если бы набраться злости, спустить
Под шапками каштанов старых на грядках лавочек, чисты – пенсионеры на бульварах, как бледноглазые цветы. Из полинялых незабудок, как бы открыв тихонько дверь, смиренно
Я усумняюсь. Стало быть, мое сумненье есть. Огромное, как Бог, оно во мне забилось, а стадо истин дымом заклубилось и мельтешит. Домой. И не
Я под боком живу у новогодья, не то задумчиво, не то навеселе, и все солено-горькие угодья — как скатерть-самобранка на столе — разостланы. И
Мозг выполз, как в извивах воск, епископ посох уронил. Небось ты бог? Небось ты Босх? Небось святой Иероним? И ухо, полное греха, горит как