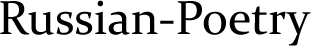Затихнет лес, слышней беседы птичьи, запахнет вкусно кашей из котла. Пора обедать, и в густой черничник летит плашмя лучковая пила. А трактор, сосны со
Стихотворения поэта Попов Валентин Леонидович
Сижу над коробом грибов, в зубах хвоинка леса. Поэтов тьма, но Пушкин — бог, не бабник, не повеса. То к буйству взлет, то к
И все же нет концов, есть перерывы. В природе все — отливы и приливы. Сгустится вновь, что было временем разъято, вновь из песчинок сплавится
Антону Роговскому Я не дома, я в доме Антона, где старинное все: тоска патефона, худенький стол, фигурный буфет, десяток — другой пожелтевших газет. Да
Дикарь пещер палеолита не мог представить современный город, автобус или телевизор… Так я представить не могу, что будет через тыщу лет, но верю —
То ли я помудрел, то ли я постарел — научился сердцу приказывать, и милей мне молчать, чем рассказывать. Я терпимее сделался к разным речам,
Тела иным телам отдали сок, на озере, где берег в рыжем дыме, бежит волна с нажимом посредине, который век жевать сырой песок. Я ухожу
Углублялось марксизма учение, менделисты ловили мух. Не глухим я был от рождения, но в Крестах обострился слух. Услыхал в одиночке над тумбочкой, как суфлирует
Он знал даже больше, чем сам художник. — Золотое сечение, Зевсов дождик, несамостоятелен тут Веласкес… Он тыкал в бедро Венеры указкой. Я чутко слушал,
Отриньте от меня упреков град, мной к Черной речке двигала не злоба, вы — гений, я — простой кавалергард, но на снегу мы равны
Он по — человечьи сегодня доволен: впервые — из темного стойла на волю. Впервые над ним журавлиные клики, будто скрипят на селе калитки. Впервые
В Олимпии стихи читал поэт, лицо подняв к седому поднебесью. Из глаз его струился смелый свет, но руки — руки были интересней. Они, то
Книг я начитался и печален: Гамлет, Мышкин, Дон-Кихот и Швейк. Кто умен, тот вроде ненормален — странно все ж устроен человек. Скажете: — Сей
Было что-то большое и тревожное, как перелет птиц. Думал: до тебя дотронуться — побывать в мастерской воскресшего Врубеля. И вот сижу рядом, читаю, зеваю.
То буен, как река в ущелье, то утренний стыжусь себя ночного, то за вчерашнее прошу прощенья, то за молчанье, то за сказанное слово. Желаний
Я об этом думаю с волнением, я стараюсь в этом разобраться: самое большое удивление в том, что мы отвыкли удивляться. В самом деле, присмотритесь
Среди транзисторного шума, среди звона мы отвыкаем размышлять уединенно… Но от раздумий, не от междометий, в бессвязном обнаруживаешь связь. И мысль, что негасимо людям
Она плыла, а далее — плыл за окном снежок, и тоненькую талию покачивал смычок. Меня прощала скрипка, что причинял ей боль. С каким надсадным
Вот она — одна стоит на вырубке, в три обхвата ствол с большим дуплом. Если б только леший не был выдумкой — Он бы
Мастер занят, вино презрев, он дымит своей трубкой старой: заказал ему принц барельеф юной жены — Динары. Красотою ее осиян, три недели лепил он
Здесь леса стоят в седом тумане И шумят, как сотни лет назад. Здесь не раз в охотничьем капкане Потухали беличьи глаза. Здесь душе твоей
В другой угол неба комод тяжелый Решил переставить зачем-то Бог. Вместе с женой повезли по полу Набитый бельем трехэтажный гроб. С комода тяжелая банка
Наш век — век удивительных контрастов: полеты в космос, и народ в церквах… В эпоху изотопов и пластмассы в монастыре сидит себе монах. Красивый,
Оказывается — я старею. Все глаголы имеют прошедшее время. Медленно тороплюсь. Ночь черней некролога и короче улицы Зодчего Росси. Оказывается, если хочешь догнать кого-то,
Вот я и вернулся в город юности. Серый дождик за окном гостиницы. Я достал, покуривая трубочку, записную книжку телефонную. Чтобы услыхать былых товарищей, стал
На Руси свобода — анекдот, я же не вития с медным зубом, к мятежу не призывал народ, не бунтарил, не бодался с дубом. На
Мчал поезд вдалеке сверхскоростной, машина проносилась за машиной, плыл лайнер в небесах — все ж от картины несло какой-то затхлой стариной. Но медленно, как
Сколько лет прошло… Улетаем в космос. Автограф Грибоедова стоит дороже «Мерседеса». Но — ахают: бессмертная комедия! А, по-моему, это страшно, что бессмертная, что не
В ночи загрохотал вулкан тревожно, сбежался в страхе к морю городок: оратор, дворник, пастор и безбожник, и неуч, и великий педагог — притихли все,
Вот времена: растет цена на тишину… Шум вреден, а порой почти смертелен, я говорю не про ревущую волну, небесный гром и белый вой метели.
В небесах луна — незрелой сливой, жуть Вселенной, звездная зола… Счастлив я, что не бывал счастливым, что проплыл по жизни без весла. Спал под
Как живется вам, Иван Денисович? Нам для встречи выдан был лишь день. Но года сметали суток тысячи, Вы ж не забываетесь меж тем. Вы
Пеньковую петлю намылил кат и тихому стрельцу надел на шею. Еще вдова кричит: «Не виноват!» и пятеро детей молчат за нею. Но государя жесткая
Бьют белого дубинкой, негра — плеткой, Манолис Глезос снова за решеткой, исчезли мельницы, но в тело нож вонзают… Вот отчего смеются в кинозале, когда
Пишу в дорожном спецвагоне, В тиши былое вороша. Блестят на черном небосклоне Семь точек звездного ковша. Мы завтра улетим в рассвет, Здесь — прожит
Чужая голова — потемки. Но твердо верю с давних пор, что наши умные потомки сумеют выдумать прибор, читающий чужие мысли. Я этому, конечно, рад,
Когда дневное смолкнет толокно и присмиреют преданные тени, сгорит в окне последнее окно и вновь в ночи огонь свечу разденет — ты верь: за
И мне бы лететь и увидеть: Земля превращается в глобус, и вот она стала снежком голубым, как в детстве, когда рукавички линяли… Мне не
Для того он и живет и дышит, чтобы люди становились ростом выше, чтобы кончил мир мириться с ложью. Если великан не на ходулях, если
У Времени такая уйма времени! А сколько дел? — безмерна тяжесть бремени. Но все ж оно работает неплохо, раз возникают звезды, гаснет солнце, худеют
Родились котята в корзине, Возле веников на чердаке. Дед сказал: «Развели зверинец, Утопи-ка их, внук, в реке». Посмотрел я, как кошка лижет У котенка
Она вошла — ясна, простоволоса, я притащил стакан, солонку, хлеб. Сидели мы, мозгуя о вопросах, которым, вероятно, тыщи лет. О сложностях в житейском и
Быть может, я не прав — допустим, но, как от медленной воды, я сплю от коллективной грусти людей, построенных в ряды. Когда я слышу
На водопой, а скорей на убой двигались как-то сами собой: какие-то древнейшие ассирийские ядрометы, николаевская мортира волочила лафет, гаубицы, броневики, вездеходы, современная установка суперракет,
Врачи картину смотрят о врачах — не то. Прочел солдат поэму о войне — сказка. А физики на физиков глядят — враки… О, малый
Да разве это ноша, разве бремя — самим собою быть в любое время? Трудней всего не быть самим собою: имея тенор, петь пытаться басом,
Я гривенником запустил в луну, но звона ты не услыхала… Теперь следы твои, как маленькие скрипки, уводят в норку черного крота. Ты изменилась, как
Оттаивает тишина. Грачи бомбят асфальт — весна! Растет в термометре блестящий столбик ртути, льды по Неве плывут, испачканы в мазуте. Теплеют стекла и дыханье
Ведь кто-то поджигал под Серветом хворост. Ведь кто-то вырезал звезду на коже коммуниста. Ведь кто-то в дни безнаказанных убийств, в ребенка целясь, нажимал курок.
Океан влюбился в кухонную тряпку. Это бывает, особенно у океанов… Он часто приходил к ней, но его загоняли в чайники, кастрюли, бадьи. Однажды, увидев