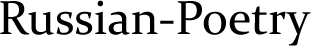… Все это, в общем, буднично и просто:
туман, дожди, шуршащие плащи.
И я любил, как школьник-переросток,
и пудрою забеливал прыщи.
И я торчал, как статуя ревнивца,
под голубым, под гаснущим окном.
Забыть — решая — или же забыться?
Как лучше — одному или вдвоем?
И я, и я — отыскивал сонеты,
которые никто не изучал, —
и как свои выплакивал. За это
взамен я ничего не получал.
И это я — уткнувшийся в подушку —
изображал томление в крови.
Но дурья боль не стоит ни полушки —
любовь не купишь силою любви.
…Все это, в общем, в прошлом. И однако —
и я любил. И смею говорить —
влюбленный одинок и одинаков,
коль чуда не сумеет сотворить.
Взгляни в глаза, зеленые от скуки.
Скажи — пойдем? Да где там, Боже мой —
она твои отталкивает руки.
Ей, видите ли, надобно домой.
Ей воздух поновей необходимей.
Своя рубашка ближе, чем твоя.
Вы это на уроках проходили?
Краснеете? А я любил. И я
желал болезни, смерти, воскрешенья.
Распятия — всем нравящимся ей!
Все это, впрочем — прочерк. Утешенье.
…Но вот один из прошлогодних дней.
Но вот одна из прошлогодних шуток
сентябрьских, присущих желтизне.
Смешение проблем и прибауток.
Смешное возвращение к весне.
Косящий взгляд. Скользящая улыбка.
Прогулка рядом. Кругом голова.
И тучи, нависающие хлипко.
И липко моросящая листва.
О чем скучали — разные по сути
два человека, встретясь на земле?
Я помню — о фарфоровой посуде
она мечтала и о хрустале.
Поэзия и музыка, конечно:
Бетховен, Бах, Верлен и Малларме.
Ахматова в наряде подвенечном
и Шарль Бодлер во свете и во мгле.
Ее влекла не роскошь обихода,
а красота… Она была мила
так, что из рядового турпохода
нерядовую б прелесть извлекла.
………
Ее кудряшки между тем развились,
но легкий волос тени не бросал
на щеки, что от солнца золотились.
Но я об этом, кажется, писал.
Я, если мог бы, только любовался
босячкой этой в синем свитерке.
… А листья кленов в тихом темпе вальса
несло на волю, к берегу, к реке.
Ей тоже захотелось. И по тропке
спустились мы к лазурнейшей воде,
где брошенные банки и коробки
скорбели в проржавевшей лебеде.
Где зеленели битые бутылки,
немотствовали полосы газет…
Уже заря на лысые развилки
роняла свой нелюбопытный свет.
Уже небес скудело обаянье.
И фонари, как будто богачи,
лучи бросали — словно подаянья
всем, кто впадал в отчаянье в ночи.
Я мог бы здесь уйти от любопытных,
цитатами отбиться от зевак…
Она была так близко, что обидным
мне показался подступавший мрак!
Она была — ну как бы это проще
вам объяснить — так явно молода,
как молода березовая роща
иль только что взошедшая звезда.
Как мотылек, как травка у крылечка,
как тишина меж словом «да» и «нет».
Когда б не обручальное колечко —
я дал бы ей всего семнадцать лет.
Я понимаю, что сбиваюсь с ритма
и рытвины не вижу за бугром.
Она была… Ну, в общем, так открыта,
что я себя поставил стариком.
Но девочка заезжая, актриса,
раскованностью очень дорожа,
по странному какому-то капризу
дурачилась — и знала, что свежа.
И говорила много и неясно…
И мне все было как-то невдомек
спросить ее — зачем она прекрасна
и что за черт сюда ее завлек!
Ведь городок у нас не театральный
и на премьерах тишь да благодать.
И выгоды ей нет материальной,
и щедрых меценатов не видать.
Что это я на собственной же шкуре
сам испытал — и рад бы деру дать,
когда б не память юношеской бури
и дом родной, и кладбище, где мать.
Когда б не сын, воюющий с сиротством,
и вообще — та почва, что вросла
в меня всего… Как ненависть уродца
к любимчикам по роду ремесла.
…А там, на стороне левобережной,
пыхтел, дымился мировой гигант —
о коем, не в пример мне, так прилежно
вещал богатый бодростью талант.
А там текли сердца и тепловозы
к единой цели мира и труда —
и в результате вспыхивали грозы
и новые рождались города.
О, помню я те дебри и дубровы,
никак не устававшие расти,
ночных столовок воздух нездоровый
и тесный свет в тоннелях по пути.
А ветер, ветер в спаренных пролетах,
наотмашь бьющий замшевый ремень!
Я не забыл в оконных переплетах
слой пыли, затвердевший как кремень.
Я не забыл невест неутомимых
в комбинезонах, скорых впопыхах.
Но я не знал, что век неумолимый
нас долго не оставит в женихах.
И пусть еще мы радуемся, злимся,
но формула уже осмыслена:
я повторю — «У жизни есть любимцы.
Мне кажется, мы не из их числа».
Я много дал бы, чтобы вновь вернуться
назад, в ту пору… Молодость прошла.
Знакомые просторно улыбнутся:
мол, как там шапка — шибко тяжела?
Творишь помалу? То-то в магазинах
для шариковых ручек нет стержней.
И, щегольнув ногою в мокасинах,
исчезнут с медом щедрости своей.
О чем же я? Ведь рядышком — желанна,
мила, смела, начитанна, умна,
рассеянною тайной осияна —
идет чужая юная жена!
Вот это и обидно-то… Не надо.
Счастливой в одиночестве побудь.
Чужое счастье создает преграду,
которую нельзя перешагнуть.
Кругом позор распавшейся удачи.
Все подменила служба и семья.
Дар состраданья полностью утрачен.
О чем же я, о чем, о чем же я?
Ведь невозможно за такие сроки
столь передумать: зависть помогла?
Ума чужого стыдные уроки?
Иль полночь уже в ночь перетекла?
И никого нет рядом? Но подумай —
ты можешь убедиться… Локоть. Смех.
Теперь уже и фонари угрюмо
смотрели с подозрением на всех.
Кто я? Кто ты? Мы ничего не знаем.
За поворотом новый поворот:
и глубь земная, щедрая и злая,
глядишь, и нас в утробу заберет.
Я на чужую жизнь не посягаю.
Мне и свою бы повернуть верней,
смотря, как с крошек голуби сигают,
чтоб отыскать добычу пожирней.
Я ел ваш суп, товарищи! Я мучал
своих родных и жару поддавал.
Меня водил по проволоке случай
и яблоко тот случай подавал.
Я уйму тайн таинственных не понял.
Но, никого на свете не виня,
мне улыбались женщины, и кони
глазами поводили на меня!
Я жил, как все… Ты, ангел поднебесный,
когда-нибудь — лет этак через пять —
поймешь, что песня может быть чудесной,
коль добровольно песню запевать!
Ты, уверяю, счастлива и будешь
еще светлей — как облачко, как дождь:
пока чужую душу не остудишь
и на свою в сердцах не посягнешь!
Кто правит бал? В кабальные условья
нас ставит жизнь: так юность коротка,
что не успеешь свыкнуться с любовью,
а тут и старость крадется, кротка.
… Я это все — один, конечно, вынес.
И не сказал, и спрятал, точно вор.
Хотя в дальнейшем — как пальто на вырост —
не помешал бы данный разговор.
Но тени ночи — это тени ночи!..
И под зонтами желтых фонарей
мы шли все дальше — то есть все короче.
И я себя не чувствовал мудрей.
Я эту тему начисто обчистил.
Но лишь одно покоя не дает:
где ты, где я? Вот дерево, вот листья,
вот в перекатных звездах небосвод.
Вот осень, растворившаяся в встрече
двух посторонних, попросту, людей.
Вот вечер, что тобой вочеловечен.
Он лютого покажется лютей
мне через месяц! Надо ль быть жесточе —
огонь увел с Олимпа Прометей,
а я не смог зажечь его меж строчек
для посвященья лучшей из Медей!
Античный трагик ничего не ведал,
а видя жизнь, как будто карнавал,
преодолев обиду и победу —
все, что ни есть, по имени назвал.
Как назову, какой отмечу вехой
я этот день, в тени и суетне?
Ты кажешься мне близкою, как эхо,
и дальнею — как в зеркале в стене.
Твой светлосерый, с искристым отливом,
разлетист волос, очи зелены…
Как назову, прощаясь торопливо, —
мы друг от друга так отдалены!
Прости, душа! Не ведая потемок,
иди по желтой жатве сентября.
Еще не поздно. Месяц остр и тонок
и бодрствует над крышами заря.
Еще трамвай, гремя на поворотах,
зовет заблудших… Кончено. Беги!
Уходит воздух, будто бы в воронку.
И тьма опять. И лишь шаги, шаги…
………
Я долго был в каком-то мутном шоке.
И если раньше мучился без сна,
то спал теперь сном легким и глубоким.
И вдруг однажды выросла весна.
С постели встав, опухший от лежанья,
я подошел нечаянно к окну.
И увидал деревьев прилежанье,
Они цвели. И птицы распевали,
роняя изумруды над крыльцом.
…Я выпил на двоих в полуподвале
с каким-то проходимым мудрецом.
И понял вдруг, что зиму проворонил,
проспал, прошляпил, с глупости ослеп,
провел, как говорится, в обороне,
законопатив сам себя, как в склеп.
А между тем, а между тем и этим —
уже сирень взрывалась у окна.
И золотели маленькие дети
на воздухе с утра и до утра.
Бульдозер выл… Шла вялая прокладка
дежурных труб. У школы трубачи
наяривали громче, для порядка,
так, что на меди лопались лучи.
И все напоминало о параде —
побелка стен, их праздничный отлив.
И даже тот плакат, что чести ради
успел изобразить наш квартактив.
На этом полотне хрестоматийном
какая-то правдивая рука —
вполне серьезно, но и комедийно —
изобразила недуги врага.
Чуть не захохотав от умиленья,
хоть ничего не понял до конца,
я спохватился — это умаленье —
хоть малого, но все ж таки творца!
А дым родной и сладок, и приятен.
Я понемногу к дыму привыкал.
И наблюдал игру теней и пятен
и к выигравшим сразу примыкал.
………
Давай пофилософствуем немного.
Занятья философией не вред.
И прежде, чем присесть перед дорогой —
внимательней осмотрим табурет.
Не подломились б ножки у предмета,
на коем предназначено сидеть…
Пришла весна — появится и лето,
пылая, как начищенная медь.
Я вспомнил меланхолию, ноябрь,
чай жидковатый, шорохи, огни,
лед на крыльце и наледь на ухабах —
все белые томительные дни.
Все белые, но скрещенные с черным,
крутые ночи, гости невпопад,
тень от ветвей, похожую на черта —
поскольку черт и темен, и рогат!
Метелицу с личиною пожара,
какое-то размытое лицо,
смеявшееся жалобно и шало,
и месяца над ним полукольцо.
Зеленую девчонку-гастролершу,
частушечные пошлые стихи…
И понял я, что было б много горше
мне без такой-то, в общем, чепухи.
Что делать — урожай на неудачи
любовные и прочие пришел!
Когда б я не был этим озадачен —
другое бы занятие нашел.
Я стены бы украсил, как витрины
художественного фотоателье,
и вывесил не просто бы картины,
а фото женщин в импортном белье.
Но здесь не то… Дух некий меня мучил.
Сиянье бестелесное, мираж.
Слияние сомнительных созвучий
протягивало в руки карандаш.
Мне захотелось повториться внове
и ту дорогу заново прочесть —
еще длиннее, шире, бестолковей,
чтоб каждый прочерк мыслился, как весть.
О невозможном, но необходимом.
Но где та грань, та птица ремесла,
чтоб поняла меня и подхватила
мои слова и к цели принесла?
Где демон тот, где этот Мефистофель —
верни мне юность, пыльную, в жаре,
чтоб я смахнул след травянистый с туфель
в уже прошедшем старом сентябре.
Ау, искусство! В пестиках сирени
твоя гнездится вечная весна.
А женщины не терпят повторений.
Их привлекает только новизна.
Где обитают ласточки весною?
Их место синева и высота.
Ну хоть немного поиграй со мною,
увиденная сердцем красота!
Услышь меня сквозь проливни и лавы
зеленопенной бешеной листвы —
не ради слов, не ради ленной славы
я был, я жил, я жег свои мосты!
Сквозь неприметье, легок на помине,
не возникал я в ваших сквозняках.
Хоть в этом малом я — да не повинен,
нет, не повинен, да — не возникал.
Ни в коридорах, ни на перекрестках,
ни у березок, ни у тополей,
не топотал под бубен на подмостках
и под трехрядку посреди полей!
Я просто жил, живой как обещанье.
Пил воздух свой — единственный, как ваш.
Вы без моих грехов не обнищали.
Во всем виновен я и карандаш.
…Ты, легкая, посеяла обиды…
Но посреди вседневной суеты
взошли цветы без цели и орбиты.
Но это могут только лишь цветы!
Вы сейчас читаете стих Прочерк, поэта Попов Борис Емельянович