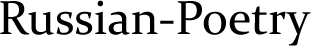Сколько ушло, отшумело, отпело, полвека, век? Прошлого нет. Но и – непрошлого нет. Было – даешь! стало – давай-давай. Было – долой! стало навеки
Стихотворения поэта Сатуновский Ян
Кто во что, а я поэт. Кто на что, а я на С. Стою по ранжиру между Слуцким и Сапгиром. Закат – зияющ и
Архангелы – евреи, говорит Сапгир. Архангел Гавриил. Архангел Даниил. Топор за поясом и крылья на весу. С архангельской лошадью в архангельском лесу архангел Иосиф
Я хорошо, я плохо жил, и мне подумалось сегодня, что, может, я и заслужил благословение Господне.
Мое – не мое – небо. Мои – не мои – звезды. Теперь они – реабилитированы – бессмертные – посмертно. Прими меня, блудного сына;
Кончается наша нация. Доела дискриминация. Все Хаимы стали Ефимами, а Срулики – Серафимами. Не слышно и полулегального галдения синагогального. Нет Маркиша. Нет Михоэлса. И
Мне говорят: какая бедность словаря! Да, бедность, бедность; низость, гнилость бараков; серость, сырость смертная; и вечный страх: а ну, как… да, бедность, так.
Симанович-старик за селедкой стоит. Симанович-старик, за четверкой сходи. Обойди мою обиду, полюби мою свободу, соль и сахар, напоследок дайте асалоду (Симанович-старик в Вострякове зарыт).
Спасибо папе Павлу: он снял с евреев грех за то, что мы распяли Спасителя-Христа. А я с одной грузинкой спал года два назад. При
Помню ЛЦК – литературный центр конструктивистов. Констромол – конструктивистский молодняк. Помню стих: «в походной сумке Тихонов, Сельвинский, Пастернак». Зэк был констриком, но с новолефовским
Бабка подымается бодрая, с давлением, с рвением берется за домашние дела, а намедни важно поддала. Вот и дед закашлялся с добрым утром. Закури-ка, старче,
Друзья мои, я отоварился! Я выбил в кассе жир и сахар! Я выскочил, как будто выиграл сто тысяч. Мне вышибла мозги Москва. Теперь я
Вышли трое в костюмах правительственного покроя, три сфинкса, три дворника, три кубышки, опиджаченные по всем правилам портняжного кубизма, с цитатами на устах и с
Рано пошабашили, дома щи не смажены, курочка в гнезде, а яичко где? где бог? нет его, и винить некого, сами замесили, сами тесто квасили,
Я теперь работаю в Главке – Глав- упр- кур- лапки. Главное дело – дело есть: для дальнейшего подъема куроводства – обеспечить – оборачиваемость –
За комиссиями, за подкомиссиями, за перекомиссиями, за медицинскими освидетельствованиями, за международными событиями, за, за, за, – за 300 лет до Рождества Христа выяснено: все
Незаменимых нет. О, да, незаменимых нет. Незаменимых нет: есть заменители. Заменим Бабеля? Заменим! А Зощенко? И Зощенко!
Верлибр – это рубленая проза. Строчка – рубль. А нам не платят ни копейки ни за прозу, ни за верлибр. И рифмы здесь не
За 20 лет, пересверкнувших молниями окна, как изменился свет! Нет Мопра, и нет Допра, нет Вцика, и Лиги Наций тоже нет; и даже «ЦКК
Благословенно злополучие, избравшее нас между народами земли. На улицы! На улицы! Станцуемте! Споемте! Восстанемте из мертвых! Гит Йонтыф! Гит Йонтыф! Гит Йонтыф!
Осень-то, ехсина мать, как говаривал Ваня Батищев, младший сержант, родом из глухомани сибирской, Павший в бою за свободу Чехословакии. Осень-то, ю-маю, все деревья в
В апреле земля преет, баня парит, баня и правит. Так вяжи гужи пока свежи! Да не бей Фому за Еремину вину, нынче кривда только
Громыко сказал: «местечковый базар». – Так и сказал? – Да, так и сказал. – Он можбыть сострил? – Да, можбыть сострил. – А больше
Я Мойша з Бердычева. Я Мойзбер. А, может быть, Райзман. Гинцбург, может быть. Я плюнул в лицо оккупантским гадинам. Меня закопали в глину заживо.
Просыпаешься среди ночи с сердцем, бьющимся изо всей мочи, и с единой мыслью: свершилось! Вдох: свершилось! Выдох: свершилось! Вопль: свершилось! – Да что с
Сейчас, не очень далеко от нас, идет такое дикое кровопролитье, что мы не смотрим друг другу в глаза. У всех – геморроидальный цвет лица.
А, может быть, мерило веры – тревожные гудки за выморочными перилами Грина? Моторы, может быть, зерносушилок, и розовая сигнатурка, способная преобразить… Но в этом
Затмись, светило, свети вполсилы; болтун, разиня, не суйся в драку – отрекут от России; А меня, читаку, оплетут, околпачат, оглушат, проведут на мякине, на
Сегодня 17-ое июня. Никто не родился и не умер. По этому поводу скажите мне, кто-нибудь, живут ли еще в нашем городе еврейские дамы с
Так, ничего определенного; нечто неопределенное; нечто туманное, млечно-серое на сумеречном фоне. А сердце бьется, сердце бьется все ревностней, все обреченней; Как будто вырвется сейчас
Вот мы сидим на крылечке и слушаем с детства знакомый рассказ: «жили-были старик со старухой». Так, оказывается, это про нас.
В полночь на Пресне переменились масти: светлые – погасли; темные – воскресли; Что ж ты, товарищ, в душу мне фары пялишь?
Что ж нам делать с нашей мачехой, сущей сумасшедшей, выколачивающей из падчерицы душу человечью? Или нет души у Золушки? Что нам делать с нашей
14 апреля Маяковский покончил жизнь самоубийством. А жить становилось лучше, жить становилось веселей, поэтому смерть поэта устраивала генсека.
Дорогой Матусовский! Дорогой Хелемский! Дорогой Юшкин, Вак Флегетонович! Это было недавно, это было давно… Все встают. Все поют.
Кого она любит читать? Наверно, Жюль Верна. Умеет рулить, и стрелять, и плавать, наверно. На набережной, наедине, и голос знакомый. Прошла, и напомнила мне
Пустые стоят коровники, о которых Есенину пелось. На лицах у колхозников молочно-восковая спелость. А жить-то ведь каждому хочется, а не жмыхать газетное сено. Нет,
Ну, ладно, семь бед – один ответ. Мне было 7 лет, когда Гумилева в заневском застенке поставили к стенке, пустили в расход, и были
И как от угля, в темноте горящего, мне глаз не отвести никак от этого на первый взгляд невзрачного, от зряшного, на первый взгляд, цветка.
О ком я поведу рассказ? О нас, о вас, Могиз, Мосгаз, Мосгаз, магАзин, по мозгам, Москва, Ногинск, Электросталь, Черноголовка.
Один сказал: – Не больше и не меньше, как начался раздел Польши. Второй страстно захохотал, а третий головою помотал. Четвертый, за, за, заикаясь, преподнес:
Перечитываю снова и снова. От шмона до шмона. Тут тебе и маслице, и фуяслице, и Гопчик, и Кильгас. Эх, глаз-ватерпас – попки на вышках!
И красный не красный, и празднуй не празднуй, и все оттого что, все потому что, с микитой тошно, с косыгой – скучно; и страшно.
Мама, мама, когда мы будем дома? Когда мы увидим наш дорогой плебейский двор и услышим соседей наших разговор: – Боже, мы так боялись, мы
Слушай сказку, детка. Сказка опыт жизни обобщает и обогощает. Посадил дед репку. Выросла – большая-пребольшая. Дальше слушай. Посадили дедку за репку. Посадили бабку за
Чертежник милый, ты, должно быть, славный малый! С тех пор, как твои зафонарели рифмы, мне легче жить: я не один в безумном, безумном, –
Как я живу? Живу наяву. Давным-давно было мне тяжело. А сейчас все равно. Все равно, ничего.
Мой язык славянский – русский. Мой народ смоленский, курский, тульский, пензенский, великолуцкий. Руки скрутят за спину, повалят навзничь, поллитровкой голову провалят – ничего другого
Эх, Мандельштам не увидел голубей на московском асфальте, не услышал шелеста и стука, доносящегося снизу, не взял в руки сизую птицу, не подул ей,
Двуединый двигатель спаренного механизма. Двузначный, двучленный, сердечные клапаны – ну! А теперь асинхронно. Теперь асинхронно. Да, теперь асинхронно.