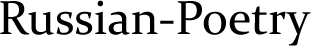Еще скребут по сердцу «мессера», еще вот здесь безумствуют стрелки, еще в ушах работает «ура», русское «ура-рарара-рарара!»- на двадцать слогов строки. Здесь ставший клубом
Стихотворения поэта Слуцкий Борис Абрамович
Человек, как лист бумаги, изнашивается на сгибе. Человек, как склеенная чашка, разбивается на изломе. А моральный износ человека означает, что человека слишком долго сгибали,
Как лучше жизнь не дожить, а прожить, Мытому, катаному, битому, Перебитому, но до конца недобитому, Какому богу ему служить? То ли ему уехать в
Натягивать не станем удила, поводья перенапрягать не станем, а будем делать добрые дела до той поры, покуда не устанем. А что такое добрые дела,
Этот климат — не для часов. Механизмы в неделю ржавеют. Потому, могу вас заверить, время заперто здесь на засов. Время то, что, как ветер
Шаг вперед! Кому нынче приказывают: «Шаг вперед!» Чья берет? И кто это потом разберет? То ли ищут нефтяников в нашем пехотном полку, чтоб послать
В то время револьверы были разрешены. Революционеры хранили свои револьверы в стальных казенных сейфах, поставленных у стены, хранили, пока не теряли любви, надежды и
Оказывается, война не завершается победой. В ночах вдовы, солдатки бедной, ночь напролет идет она. Лишь победитель победил, а овдовевшая вдовеет, и в ночь ее
Годы приоткрытия вселенной. Годы ухудшения погоды. Годы переездов и вселений. Вот какие были эти годы. Примесь кукурузы в хлебе. И еще чего-то. И —
Мозги надежно пропахали, потом примяли тяжело, и от безбожной пропаганды в душе и пусто и светло. А бог, любивший цвет, и пенье, и музыку,
Каменную макулатуру трудно сдать в утиль. Мраморную одежку слишком долго донашивать. Землетрясений тоже в центре России нет. Будут стоять колонны, здания приукрашивать. Будут глаза
Во-первых, он — твоя судьба, которую не выбирают, а во-вторых, не так уж плох таковский вариант судьбы, а в-третьих, солнышко блестит, и лес шумит,
Сталин взял бокал вина (может быть, стаканчик коньяка), поднял тост, и мысль его должна сохраниться на века: за терпенье! Это был не просто тост
Т. Дашковской Выходит на сцену последнее из поколений войны — зачатые второпях и доношенные в отчаянии, Незнамовы и Непомнящие, невесть чьи сыны, Безродные и
С небесных ворот восторга в разбитое канешь корыто. Мотаешься, словно картонка, табличка «Открыто — закрыто». Открою, потом закрою, то раскалюсь, то простыну. То землю
Поскорей высчитывайте шансы — или джинсы, или дилижансы. Синтез двух столетий невозможен — реквизит на разных складах сложен И по разным ведомствам оформлен. Будь
Страшный суд не будет похож на народный и на верховный. Род людской, дурной и греховный, он, возможно, не вгонит в дрожь. Может быть, бедный
Мягко спали и сладко ели, износили кучу тряпья, но особенно надоели, благодарности требуя. Надо было, чтоб руки жали и прочувствованно трясли. — А за
Ложка, кружка и одеяло. Только это в открытке стояло. — Не хочу. На вокзал не пойду с одеялом, ложкой и кружкой. Эти вещи вещают
Нарушались правила драки. Вот и все. Остальное — враки. То под дых, то в дух, то в пах. Крови вкус — до сих пор
А мой хозяин не любил меня. Не знал меня, не слышал и не видел, но все-таки боялся как огня и сумрачно, угрюмо ненавидел. Когда
Я носил ордена. После — планки носил. После — просто следы этих планок носил, А потом гимнастерку до дыр износил. И надел заурядный пиджак.
Полутьма и поля, в горизонты оправленные, широки как моря. Усеченные и обезглавленные церкви бросили там якоря. Эти склады и клубы прекрасно стоят, занимая холмы
Ленинские нормы демократии — это значит: встать и говорить все по совести и все по правде и лично эти нормы сотворить. Это значит —
Мы все ходили под богом. У бога под самым боком. Он жил не в небесной дали, Его иногда видали Живого. На Мавзолее. Он был
Попадись мне машина времени! Я бы не к первобытному племени полетел, на костров его дым, а в страну, где не чувствуешь бремени лет, где
Исааку Бабелю, Артему Веселому, Ивану Катаеву, Александру Лебеденко Когда русская проза пошла в лагеря: в лесорубы, а кто половчей — в лекаря. в землекопы,
Честный человек должен прямо смотреть в глаза. Почему — неизвестно. Может быть, у честного человека заболели глаза и слезятся? Может быть, нечестный обладает прекрасным
Виноватые без вины виноваты за это особо, потому что они должны виноватыми быть до гроба. Ну субъект, ну персона, особа! Виноват ведь! А без
Вы не были в районной бане В периферийном городке? Там шайки с профилем кабаньим И плеск, как летом на реке. Там ордена сдают вахтерам,
Начинается расчет со Сталиным, и — всерьез. Без криков и обид. Прах его, у стен Кремля оставленный, страх пускай колеблет и знобит. Начинается спокойный
Дети смотрят на нас голубыми глазами. Дети плачут о нас горевыми слезами. Дети смотрят на нас. Дети каждый твой шаг подглядят и обсудят, вознесут
Всем лозунгам я верил до конца И молчаливо следовал за ними, Как шли в огонь во Сына, во Отца, Во голубя Святого Духа имя.
— Немецкий пролетарий не должон!- Майор Петров, немецким войском битый, ошеломлен, сбит с толку, поражен неправильным развитием событий. Гоним вдоль родины, как желтый лист,
Я был плохой приметой, я был травой примятой, я белой был вороной, я воблой был вареной. Я был кольцом на пне, я был лицом
Учила линия передовая, идеология передовая, а также случай, и судьба, и рок. И жизнь и смерть давали мне урок. Рубеж для перехода выбираю. В
1 Понятны голоса воды от океана до капели, но разобраться не успели ни в тонком теноре звезды, ни в звонком голосе Луны, ни почему
Где сходятся восток и запад, сливаясь в север, там юг везде, куда ни взглянешь, там — полюс. Когда-то — точка приложенья надежд геройских, а
Ночной вагон задымленный, Где спать не удавалось, И год, войною вздыбленный, И голос: «Эй, товарищ! Хотите покурить? Давайте говорить!» (С большими орденами, С гвардейскими
Нам черное солнце светило, нас жгло, опаляло оно, сжигая иные светила, сияя на небе — одно. О, черного солнца сиянье, зиянье его в облаках!
I Мне снилось, что друг уезжает, что старый мой, друг мой, встает, узлами купе загружает, проститься с собою дает. Тот самый, в котором души
Нас было семьдесят тысяч пленных В большом овраге с крутыми краями. Лежим безмолвно и дерзновенно, Мрем с голодухи в Кельнской яме. Над краем оврага
Вручая войны объявленье, посол понимал: ракета в полете, накроют его и министра и город и мир уничтожат надежно и быстро, но формулы ноты твердил,
Поэты «Правды» и «Звезды», Подпольной музы адъютанты! На пьедесталы возвести Хочу забытые таланты. Целы хранимые в пыли, В седом архивном прахе крылья. Вы первые
Дивизия лезла на гребень горы По мерзлому, мертвому, мокрому камню, Но вышло, что та высота высока мне. И пал я тогда. И затих до
Мир, какой он должен быть, никогда не может быть, Мир такой, какой он есть, как ни повернете — есть. Есть он — с небом
Дома напоминали ульи, где вился рой чудес: не деревянные, как стулья — древесные, как лес. Не плотники — краснодеревцы, не спрохвала — благословясь, выкидывали
Как искусство ни упирается, жизнь, что кровь, выступает из пор. Революция не собирается с Достоевским рвать договор. Революция не решается, хоть отчаянно нарушается Достоевским
Воссоздать сумею ли, смогу Образ человека на снегу? Он лежит, обеими руками Провод, два конца его схватив, Собственной судьбой соединив Пустоту, молчание, разрыв, Тишину
Мускулы мыслителю нарастил Роден, опустить глаза заставил. Словно музыка сквозь толщу стен, словно свет из-за тяжелых ставен, пробирается к нам эта мысль. Впрочем, каждый