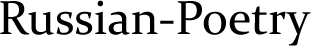Бани! Бани! Двери — хлоп! Бабы прыгают в сугроб. Прямо с пылу, прямо с жару — Ну и ну! Слабовато Ренуару до таких сибирских
Стихотворения поэта Вознесенский Андрей Андреевич
Я — памятник отцу, Андрею Николаевичу. Юдоль его отмщу. Счета его оплачиваю. Врагов его казню. Они с детьми своими по тыще раз на дню
Охрани, Провидение, своим махом шагреневым, пощади ее хижину — мою мать — Вознесенскую Антонину Сергеевну, урожденную Пастушихину. Воробьишко серебряно пусть в окно постучится: «Добрый
Ты молилась ли на ночь, береза? Вы молились ли на ночь, запрокинутые озера Сенеж, Свитязь и Нарочь? Вы молились ли на ночь, соборы Покрова
Я шел вдоль берега Оби, я селезню шел параллельно. Я шел вдоль берега любви, и вслед деревни мне ревели. И параллельно плачу рек, лишенных
Загляжусь ли на поезд с осенних откосов, забреду ли в вечернюю деревушку — будто душу высасывают насосом, будто тянет вытяжка или вьюшка, будто что-то
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж все знает — что
Ты с теткой живешь. Она учит канцоны. Чихает и носит мужские кальсоны. Как мы ненавидим проклятую ведьму!… Мы дружим с овином, как с добрым
Он приплыл со мной с того берега, заблудившись в лодке моей. Не берут его в муравейники. С того берега муравей. Черный он, и яички
Почему два великих поэта, проповедники вечной любви, не мигают, как два пистолета? Рифмы дружат, а люди — увы… Почему два великих народа холодеют на
Париж скребут. Париж парадят. Бьют пескоструйным аппаратом, Матрон эпохи рококо продраивает душ Шарко! И я изрек: «Как это нужно — содрать с предметов слой
Б. Ахмадулиной Пол — мозаика как карась. Спит в палаццо ночной гараж. Мотоциклы как сарацины или спящие саранчихи. Не Паоло и не Джульетты —
Я — семья Во мне как в спектре живут семь «я», невыносимых, как семь зверей А самый синий свистит в свирель! А весной Мне
I 22-го бросилась женщина из застрявшего лифта, где не существенно — важно в Москве — тронулся лифт гильотинною бритвой по голове! Я подымаюсь. Лестница
Я сплавлю скважины замочные. Клевещущему — исполать. Все репутации подмочены. Трещи, трехспальная кровать! У, сплетники! У, их рассказы! Люблю их царственные рты, их уши,
Судьба, как ракета, летит по параболе Обычно — во мраке и реже — по радуге. Жил огненно-рыжий художник Гоген, Богема, а в прошлом —
Ко мне является Флоренция, фосфоресцируя домами, и отмыкает, как дворецкий, свои палаццо и туманы. Я знаю их, я их калькировал для бань, для стадиона
В чьем ресторане, в чьей стране — не вспомнишь, но в полночь есть шесть мужчин, есть стол, есть Новый год, и женщина разгневанная —
Я во Львове. Служу на сборах, в красных кронах, лепных соборах. Там столкнулся с судьбой моей лейтенант Загорин. Андрей.
Вас за плечи держали Ручищи эполетов. Вы рвались и дерзали,- Гусары и поэты! И уносились ментики Меж склонов-черепах… И полковые медики Копались в черепах.
«Баллада? О точке?! О смертной пилюле?!.» Балда! Вы забыли о пушкинской пуле! Что ветры свистали, как в дыры кларнетов, В пробитые головы лучших поэтов.
В дни неслыханно болевые быть без сердца — мечта. Чемпионы лупили навылет — ни черта! Продырявленный, точно решета, утешаю ажиотаж: «Поглазейте в меня, как
Знай свое место, красивая рвань, хиппи протеста! В двери чуланные барабань, знай свое место. Я безобразить тебе запретил. Пьешь мне в отместку. Место твое
Лик ваш серебряный, как алебарда. Жесты легки. В вашей гостинице аляповатой в банке спрессованы васильки. Милый, вот что вы действительно любите! С Витебска ими
Первое посвящение Колокола, гудошники… Звон. Звон… Вам, Художники Всех времен! Вам, Микеланджело, Барма, Дант! Вас молниею заживо Испепелял талант. Ваш молот не колонны И
Словно гоголевский шнобель, над страной летает Мобель. Говорит пророк с оглобель: «Это Мобель, Мобель, Мобель всем транслирует, дебил, как он Дудаева убил. Я читал
Не придумано истинней мига, чем раскрытые наугад — недочитанные, как книга,- разметавшись, любовники спят.
Мы — кочевые, мы — кочевые, мы, очевидно, сегодня чудом переночуем, а там — увидим! Квартиры наши конспиративны, как в спиритизме, чужие стены гудят
На суде, в раю или в аду скажет он, когда придут истцы: «Я любил двух женщин как одну, хоть они совсем не близнецы». Все
Я — двоюродная жена. У тебя — жена родная! Я сейчас тебе нужна. Я тебя не осуждаю. У тебя и сын и сад. Ты,
За окном кариатиды, А в квартирах — каблуки… Елок крылья реактивные Прошибают потолки! Что за чуда нам пророчатся? Какая из шарад В этой хвойной
Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую не по прошлому ностальгию — ностальгию по настоящему. Будто послушник хочет к господу, ну а
Заведи мне ладони за плечи, обойми, только губы дыхнут об мои, только море за спинами плещет. Наши спины, как лунные раковины, что замкнулись за
Большой аудитории посвящаю В Политехнический! В Политехнический! По снегу фары шипят яичницей. Милиционеры свистят панически. Кому там хнычется?! В Политехнический! Ура, студенческая шарага! А
В воротничке я — как рассольный в кругу кривляк. Но по ночам я — пес России о двух крылах. С обрывком галстука на вые
Александр Сергеевич, Разрешите представиться. Маяковский Владимир Владимирович, разрешите представиться! Я занимаюсь биологией стиха. Есть роли более пьедестальные, но кому-то надо за истопника… У нас,
На окно ко мне садится в лунных вензелях алюминиевая птица — вместо тела фюзеляж И над ее шеей гайковой как пламени язык над гигантской
Я служил в листке дивизиона. Польза от меня дискуссионна. Я вел письма, правил опечатки. Кто только в газету не писал (графоманы, воины, девчата, отставной
Поглядишь, как несметно разрастается зло — слава богу, мы смертны, не увидим всего. Поглядишь, как несмелы табуны васильков — слава богу, мы смертны, не
Мы — тамтамы гомеричные с глазами горемычными, клубимся, как дымы,- мы… Вы — белы, как холодильники, как марля карантинная, безжизненно мертвы… вы… О чем
Стихи не пишутся — случаются, как чувства или же закат. Душа — слепая соучастница. Не написал — случилось так.
Мерзнет девочка в автомате, Прячет в зябкое пальтецо Все в слезах и губной помаде Перемазанное лицо. Дышит в худенькие ладошки. Пальцы — льдышки. В
Памяти жертв фашизма Певзнер 1903, Сергеев 1934, Лебедев 1916, Бирман 1938, Бирман 1941, Дробот 1907… Наши кеды как приморозило. Тишина. Гетто в озере. Гетто
Скука — это пост души, когда жизненные соки помышляют о высоком. Искушеньем не греши. Скука — это пост души, это одинокий ужин, скучны вражьи
В час отлива, возле чайной я лежал в ночи печальной, говорил друзьям об Озе и величьи бытия, но внезапно черный ворон примешался к разговорам,
Мордеем, друг. Подруги молодеют. Не горячитесь. Опробуйте своей моделью как «анти» превращается в античность.
Мимо санатория реют мотороллеры. За рулем влюбленные — как ангелы рублевские. Фреской Благовещенья, резкой белизной За ними блещут женщины, как крылья за спиной! Их
Любите при свечах, танцуйте до гудка, живите — при сейчас, любите — при когда? Ребята — при часах, девчата при серьгах, живите — при
Он тощ, словно сучья. Небрит и мордаст. Под ним третьи сутки трещит мой матрац. Чугунная тень по стене нависает. И губы вполхари, дымясь, полыхают.
В человеческом организме девяносто процентов воды, как, наверное, в Паганини, девяносто процентов любви. Даже если — как исключение — вас растаптывает толпа, в человеческом