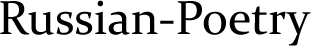Громкорыкого Хищника Пел великий Давид. Что скажу я о нищенстве Безпризорной любви? От груди еле отнятый, Грош вдовицы зацвел Над хлебами субботними Роем огненных
Стихотворения поэта Эренбург Илья Григорьевич
Где люди ужинали — мусор, щебень, Кастрюли, битое стекло, постель, Горшок с сиренью, а высоко в небе Качается пустая колыбель. Железо, кирпичи, квадраты, диски,
Страшен свет иного века, И недолго длится бой Меж сутулым человеком И божественной алчбой. В меди вечера ощерясь, Сыплет, сыплет в облака Окровавленные перья
Я не трубач — труба. Дуй, Время! Дано им верить, мне звенеть. Услышат все, но кто оценит, Что плакать может даже медь? Он в
Враги, нет, не враги, просто многие, Наткнувшись на мое святое бесстыдство, Негодуя, дочек своих уводят, А если дочек нет — хихикают. Друзья меня слушают
Что седина! Я знаю полдень смерти — Звонарь блаженный звоном изойдет, Не раскачнув земли глухого сердца, И виночерпий чаши не дольет. Молю,- о ненависть,
Гроб несли по розовому щебню, И труба унылая трубила. Выбегали на шоссе деревни, Подымали грабли или вилы. Музыкой встревоженные птицы, Те свою высвистывали зорю.
Не время года эта осень, А время жизни. Голизна, Навязанный покой несносен: Примерка призрачного сна. Хоть присказки, заботы те же, Они порой не по
Все это шутка… Скоро весна придет. Этот год наши дети будут звать «Революцией», А мы просто скажем: «В тот год…» За окном кто-то юркий
Кому предам прозренья этой книги? Мой век среди растущих вод Земли уж близкой не увидит, Масличной ветви не поймет. Ревнивое встает над миром утро.
Сбегают с гор, грозят и плачут, Стреляют, падают, ползут. Рассохся парусник рыбачий, И винодел срубил лозу. Закутанные в одеяла, Посты застыли начеку. Война сердца
На ладони — карта, с малолетства Каждая проставлена река, Сколько звезд ты получил в наследство, Где ты пас ночные облака. Был вначале ветер смертоносен,
Настанет день, скажи — неумолимо, Когда, закончив ратные труды, По улицам сраженного Берлина Пройдут бойцов суровые ряды. От злобы побежденных или лести Своим значением
Был час один — душа ослабла. Я видел Глухова1 сады И срубленных врагами яблонь Уже посмертные плоды. Дрожали листья. Было пусто. Мы простояли и
Когда подымается солнце и птицы стрекочут, Шахтеры уходят в глубокие вотчины ночи. Упрямо вгрызаясь в утробу земли рудоносной, Рука отбивает у смерти цветочные весны.
Кому хулить, а прочим наслаждаться — Удой возрос, любое поле тучно, Хоть каждый знает — в королевстве Датском По-прежнему не все благополучно. То приписать
В лесу деревьев корни сплетены, Им снятся те же медленные сны, Они поют в одном согласном хоре, Зеленый сон, земли живое море. Но и
Есть в хаосе самом высокий строй, Тот замысел, что кажется игрой, И, может быть, начертит астроном Орбиту сердца, тронутого сном. Велик и дивен океана
Как давно сказано, Не все коровы одним миром мазаны: Есть дельные и стельные, Есть комолые и бодливые, Веселые и ленивые, Печальные и серьезные, Индивидуальные
Обрывки проводов. Не позвонит никто. Как человек, подмигивает мне пальто. Хозяева ушли. Еще стоит еда. Еще в саду раздавленная резеда. Мы едем час, другой.
Все призрачно, и свет ее неярок. Идти мне некуда. Молчит беда. Чужих небес нечаянный подарок, Любовь моя, вечерняя звезда! Бесцельная и увести не может.
Были вокруг меня люди родные, Скрылись в чужие края. Только одна Ты, Святая Мария, Не оставляешь меня. Мама любила в усталой вуали В детскую
Видишь, любить до чего тяжело — Гнет к земле густое тепло. Паленая шерсть на моей груди. Соль — солона. Не береди! Ты не дочь,
Тело нежное строгает стругом, И летит отхваченная бровь, Стружки снега, матерная ругань, Голубиная густая кровь. За чужую радость эти кубки. Разве о своей поведать
Сердце, это ли твой разгон! Рыжий, выжженный Арагон. Нет ни дерева, ни куста, Только камень и духота. Все отдать за один глоток! Пуля —
Наши внуки будут удивляться, Перелистывая страницы учебника: «Четырнадцатый… семнадцатый… девятнадцатый… Как они жили!.. Бедные!.. Бедные!..» Дети нового века прочтут про битвы, Заучат имена вождей
На даче было темно и сыро. Ветер разнимал тяжелые холсты. И меня татуировала Ты. Сначала ты поставила сердце, Средь снежных цветов, Двух голубок, верную
Стали сны единой достоверностью. Два и три — таких годов орда. На четвертый (кажется, что Лермонтов) — Это злое имя «Кабарда». Были же веснушчатые
Из-за деревьев и леса не видно. Осенью видишь, и вот что обидно: Как было много видно, но мнимо, Сколько бродил я случайно и мимо,
Как восковые, отекли камельи, Расина декламируют дрозды. А ночью невеселое веселье И ядовитый изумруд звезды. В туманной суете угрюмых улиц Еще у стоек поят
Каин звал тебя, укрывшись в кустах, Над остывшим жертвенником, И больше не хотело ни биться, ни роптать Его темное, косматое сердце. Слушая звон серебреников,
Был нищий пригород, и день был сер, Весна нас выгнала в убогий сквер, Где небо призрачно, а воздух густ, Где чудом кажется сирени куст,
Волос черен или золот. Красна кровь. Голое слово — Любовь. Жилы стяни туго! Как хлеб и вода, Простая подруга — Беда. Цветов не трогай.
«Во Францию два гренадера…» Я их, если встречу, верну. Зачем только черт меня дернул Влюбиться в чужую страну? Уж нет гренадеров в помине, И
Как кровь в виске твоем стучит, Как год в крови, как счет обид, Как горем пьян и без вина, И как большая тишина, Что
Не сумерек боюсь — такого света, Что вся земля — одно дыханье мирт, Что даже камень Ветхого Завета Лишь золотой и трепетный эфир. Любви
Потеют сварщики, дымятся домны, Все высчитано — поле и полет, То век, как карлик с челюстью огромной Огнем плюется и чугун жует. А у
1 Когда она пришла в наш город, Мы растерялись. Столько ждать, Ловить душою каждый шорох И этих залпов не узнать. И было столько муки
Остались — монументов медь, Парадов замогильный топот. Грозой обломанная ветвь, Испепеленная Европа! Поникла гроздь, и в соке — смерть. Глухи теперь Шампани вина. И
Как дерево в большие холода, Ольха иль вяз, когда реки вода, Оцепенев, молчит и ходит вьюга, Как дерево обманутого юга, Что, к майскому готовясь
Нет, не забыть тебя, Мадрид, Твоей крови, твоих обид. Холодный ветер кружит пыль. Зачем у девочки костыль? Зачем на свете фонари? И кто дотянет
В ночи я трогаю, недоумелый, Дорожной лихорадкою томим, Почти доисторическое тело, Которое еще зовут моим. Оно живет своим особым бытом — Смуглеет в жар
Додумать не дай, оборви, молю, этот голос, Чтоб память распалась, чтоб та тоска раскололась, Чтоб люди шутили, чтоб больше шуток и шума, Чтоб, вспомнив,
Был бомбой дом как бы шутя расколот. Убитых выносили до зари. И ветер подымал убогий полог, Случайно уцелевший на двери. К начальным снам вернулись
1 Ночью такие звезды! Любимые, покинутые, счастливые, разлюбившие На синей площади руками ловят воздух, Шарят в комнате, на подушке теплой ищут. Кого? его ль?
Ненависть — в тусклый январский полдень Лед и сгусток замерзшего солнца. Лед. Под ним клокочет река. Рот забит, говорит рука. Нет теперь ни крыльца,
Знакомые дома не те. Пустыня затемненных улиц. Не говори о темноте: Мы не уснули, мы проснулись. Избыток света в поздний час И холод нового
Судеб раздельных немота и сирость, Скопление разрозненных обид,- Не человек, но отрочество мира Руками и сердцами говорит. Надежду видел я, и, розы тоньше, Как
На Болоте стоит Москва, терпит: Приобщиться хочет лютой смерти. Надо, как в чистый четверг, выстоять. Уж кричат петухи голосистые. Желтый снег от мочи лошадиной.
О, дайте вечность мне,- и вечность я отдам За равнодушие к обидам и годам. (И. Анненский) В печальном парке, где дрожит зола, Она стоит,