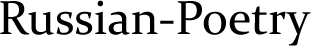Люблю толпиться в катакомбах пышного метро, где днем и ночью от электричества светло, где пыль в глаза, но не простая, а золотая, где –
Стихотворения поэта Сатуновский Ян
Как та профессорская вдова, отдававшаяся потрясно, вся в слезах, как витрина овощного магазина – Так я настраиваюсь произнести слова: – Валя! – или –
Недавно тили-лили-дудная (чудная) Галя Гладкова говорила обо мне с новым главным редактором «Малыша», вроде бы так: – Знаете, товарищ Главный, он очень русский человек,
Я – трус, трус, трус (написать на листке бумаги), я – гнусный трус (и забыть изорвать, забыть утопить в унитазе).
Я вам говорю: чудес не бывает. Меня ветрянкой называют. А я не ветрянка, а Черная Оспа. Когда вы поймете, будет поздно.
– Что ты вякаешь, Илюшка? – Ля, ля, я лягушка; я гусеныш, ля, ля, я ваш принц Илья. Дед противный, никотинный, не коли меня
Умер Додя, 84 года. Трэба, братцы, помянуть его. Жили-были Додя, Коля и Володя. А теперь не осталось НИКОГО. Только Генрих голосит псалмы. Только Рабин
Не замазывайте мне глаза мглистыми туманностями. Захочу – завьюсь за облака. Захочу – к млечным звездам улечу. Захочу – ничего не захочу. Ибо мысль
Все начальнички, все инженеры, техники об рабочем беспокоются, помочь стараются, чтобы лишний грош не заработал зазря, чтоб не выкарабкался бы из нужды. Все разумнички,
Ни на русого, ни на чернявого не науськивай меня, не натравливай, и падучего бить, лежачего не научивай, не подначивай. Я люблю Шевченко и Гоголя.
И хоть слушаешь их в пол-уха, рапортичек этих слова, от Великой Показухи засупонивается голова, так, что сам начинаешь верить, что до цели – подать
А кому – на, на, а кому – нi, нi, а Миколу Хвильового розстрiляли, чи нi? А кому таторы, а кому ляторы, а Бориса
Как я им должен быть отвратителен! – С собачьими глазами. Медли-тельно-предупреди-тельно прохаживающийся по казарме. Внимательнейший: – простите, я вас – не?.. – А, к
Достану томик своего учителя. Давно я Хлебникова не перечитывал, не подымался на валы Саянские, в слова славянсике не окунался. Исполненная детской мудрости струится речь,
Был я на похоронах Мариенгофа. Вот и окончен «Роман без вранья». Первая рифма: «эпоха». Вторая рифма: «а я?»
Хочу ли я посмертной славы? Ха, а какой же мне еще хотеть! Люблю ли я доступные забавы? Скорее нет, но может быть, навряд. Брожу
И. Холину Дом мод: моддом. С дудьем, с мамадьем, с билибиным пипигасом, и с дресом и с трасом (во что, в пиридон-перевод!). Моддом. Дом
Пришел рыбак, попробовал удочкой воду. И сразу со всех сторон налетели чайки. Десятки, сотни чаек мечутся между морем и небом, как муравьи в муравейнике.
Для меня, для горожанина, для, тем более, южанина, – и ромашки – аромашки, и фиалки – фимиамки, и акация – Божья Мати. Христолюбивое воинство,
Я как дурак в деревне. В ономнясь, анадысь, намедни. Я, как слепой, копаюсь в огороде, ни в огурцах не разбираясь, ни в моркови. Старорежимный,
Мы незванные гости. Здесь мы гостим. Здесь бывал Маяковский. Здесь был ГОСТИМ. На Трухмальной площади, через дорогу от ресторана «Пекин».
Чужая, чужая, чужая, обманом прокралась в мой сон, и точит, и мучит, и жалит, и жизнь мою ставит вверх дном. Бесстыдница, руки мне лижет,
Как будто всеми десятью пальцами – по стеклу, так – душераздирающей своей фальшью – ты, музыка Москвы, ты, мучающая слух музыка Москвы! О, скупка
Это немыслимо, бессмысленно. Это не вымысел, не мистика, не в прошлом веке, и не в будущем, это не «там уже», а тут еще –
Здесь, бельма выкатив, шурует План. Здесь вечный двигатель – пердячий пар. Здесь девки-малолетки тудой-сюдой толкают вагонетки с свинцовою рудой. Шарашкина фабрика, трави рабочий класс!
А на улицк весна. Играет в цурки пацанва. И направо, и налево – и, какие девочки. Девочки, подвиньтесь, veni, vidi, vici. Я Иван-капитан, всех
Тюмень, да теща, да Марьина Роща. А не приелась ли вам солома, та самая, что дома едома? Не тянет ли вас поглядеть на девчонок
Гражданин начальник, тут какая-то ошибка, я не тот, которого надо убивать, я сам умею убивать. Бахилы, короба, грабарки, фанерные бирки, чем ты болен, такой
Вспомнил, на кого ты похожа. В дождь, на сеновале. Со слезами. С синяками под глазами. И со светляками в полутемном, полусветлом кинозале, оживая каждый
Просматриваю девушек на свет; на свет, на свет, но если света нет; но если света нет, а есть – темно; а естество меняет существо;
Кто вы? – Репатриированные вдовы. Так едко я хотел съязвить о них, но не поворачивается язык. Устав от гитлеровских зверств, убийств, бомбежек и насилий,
Все надоело, все – остонадоело. Пустая жизнь, пустой причал, пустое небо. И только глаза – завидущие – попробуй им, запрети – за каждой девкой
Ишь, щучье веко, ишь, чванное идолище, весь свет ненавидящее чучело века, чу-чу, рассыпься, сгинь с глаз навсегда. Товарищи, гражданечки, господа, ищу человека!
Один идейный товарищ жаловался мне на другого: «подумать, без году неделя в партии, и уже такая проблядь, такая проблядь!» На что – беспартийная сволочь,
Запускали в космос Джордано Бруно. Запускали Жанну д’Арк. Запускали католиков и космополитов. Ицык Фефер, космонавт, привенерился на Марс. Даниил Хармс – на кольцо Сатурна.
Я был из тех – московских вьюнцов, с младенческих почти что лет усвоивших, что в мире есть один поэт, и это Владим Владимыч; что
Живу в подмосковной деревне. Снимаю мызу у деда Мазая. Из города ходит автобус. В автобусе тряска. В автобусе жарко. В автобусе давка. А красная
Позвонил соседу и имел с ним беседу при средних намолотах, при высоком агрофоне, 10 а то и 15, просо под вопросом, оставайтесь с Гондурасом!
Даже ночью светились цветы. Мужик с желтыми глазами, прибежавший откуда-то из полевой страны. Как заочно живущий наравне с забвенной травой, – сон ведь тоже
Отцепись от меня, отвяжись, венский жид, Зигмунд Фрейд. Бред не я, бред оно. Решено, говоришь? Врешь! Я – не отцеубийца!
Улицы со ступеньками вырубленные в скале. Удивительные деревья с шипами на стволе. А как тебе нравится, погляди-ка, вон та блондинка-невидимка – Алушта, Алупка, Евридика?
Чем дальше к старости и к смерти ( алаверды, алаверды ), тем ближе плач в Генисарете и вопли Синей Бороды: – жили не мы
Берегись поезда, берегись трамвая, берегись автомобиля, берегись пня, берегись рва, берегись завтрашнего дня – все равно не убережешься – нож в спину, клык, а
Преступление и наказание? все в порядке! – лейтенант, повторите приказание: – есть, приказано расстрелять; ни толстовщины, ни достоевщины, освежила душу война-военщина: наградные листы, поощрения
Слова-то какие: кортеж, эскорт, такое не сразу подберешь. А Никита Сергеевич куражится, а Микитка кочевряжится, дескать, знай наших, а ну держись, расшибу весь мир,
Великий Зощенко, как сказал великий Козловский, когда в дымину пьяный бессловесный бас, лопаясь и ухмыляясь и подмигивая телезрителям, распространялся за экраном. Великий Зощенко, великий
Она не хотела пилить дрова. Она вообще не хотела пилить дрова. Она хотела колоть дрова. А я не хотел колоть, я хотел пилить дрова,
Мне нравится эта высоколобая холодноглазая дама. Мне нравится задумчивый овал ее лица. Ее потухшие волосы, как листья Левитана (хотя, разумеется, возраст по ним установить
На помидорах – телесные меты. Дома хозяйка? С Воздвиженья нету. День на исходе, и ночь на исходе. Месяц – то всходит, то заходит. Как
Вечер был, сверкали звезды, рано было, или поздно, – Не полег, не полег зимостойкий дриз, улетай же, мотылек, мальчик, застучись…