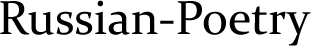Кидало, шлепало, об землю било… Ах, что осталось? Сыпучих косточек не соберу. Приподымаюсь травой затоптанной на остром локте и вслед гляжу: ушли, исчезли в
Стихотворения поэта Астафьева Наталья Георгиевна
Раздвинут до предела майский день. Серебряны речные сквозняки. Летят, летят, передвигая тень, на синий север птичьи косяки. Я твое имя слышу в их тоске
Во время неурочное, в ночи немой, ничьей, чу, звук тупой, настойчивый жующих челюстей. Жуют бумагу, дерево — лишь сыплется труха… Жрут мертвую материю и
Собака спит, ребенок спит, лишь кот, как серый сфинкс, сидит. Во тьме горят, как бирюза, его халдейские глаза. Среди простынь, среди подух сидит он,
Мужа на фронте убили. Пятеро малых детей. Их прокормить — не осилить. Даром пятьсот трудодней. Что трудодни! — пустые: палочки в графах сухие, ими
Сало с хлебом на обед. Да писк мышей в стогу. Да заячий костлявый след на выпавшем снегу.
I. Меня не выбить из седла, из горной котловины! Я лавой огненной была. Была гончарной глиной. Потом душа моя взошла травой, затем рябиной. Потом
Как холодно под звездным небом уснувшей матери-земле! Как одиноко ей под снегом лежать: как мертвым на столе. Лежит земля, раскинув руки дорог, среди полей
Зачем на праздничной планете живем, мучительно тоскуя, — и дня не выжить мне на свете без ласки и без поцелуя! Мой хлеб насущный и
Эти длинные ноги, и узкая спина, и волосы, растрепанные после сна, — не могу привыкнуть, что из меня родился человек. В ночной рубашке до
Как об лед немая рыба бьется смертно, мы так бились год за годом незаметно. Мы живые, мы видали, мы слыхали, как у стенки коммунаров
Город наш очень быстро нищает. Появились огромные стаи безнадзорных бродячих собак — как грозящего бедствия знак. В подворотнях, в толпе площадей опустившихся вижу людей,
У нас все то же, что и до войны. Отстроились сожженные деревни. А блиндажи молоденькой крапивой да заячьей капусткой поросли. Но из оврагов до
Обвели, как дурочку, вокруг пальца. Обвели. Плачу я… А стены осыпаются — вся в пыли! Осыпаются стены счастья нашего… Ты в пальто. Утешаешь: что
Ломалось время. Тридцать третий год обрушился. Там Гитлера приход, а здесь отца трагическая гибель. Единственно достойный выход — смерть. Столетия отец мой видел треть,
Все умерли, все умерли, распался теплый прах. А я живу, как мумия, застрявшая в веках. Живущему сочувствую: из уст струится пар. Листаю я без
He те, кто нужно, умирают… Не те, кому пора! Планету перенаселяют лжецы и фраера. Скопцы с глазницами пустыми. Монахи и дельцы. Слепцы безумные босые.
Душа моя так ныла. Так за душу тянуло. Так совесть докучала. Как стертая нога.
Приподымаюсь и тяпкой острой об землю черствую со звоном бью. Где, дождик-странник, все лето прячешься? Кто тучи хлебные взял распугал? Земля, как женщина, солдатка
Заиндевелые сани с увязанной клеткой дров, и солнечное сверканье слепящих до рези снегов. Зачем эти краски и тени, в растаявших блестках кусты? Мне не
Любуюсь на костел, на церковь, на мечеть, присяду у костра и буду руки греть, попотчуют чайком смородинного цвета… Ах, как мне хочется, чтоб не
Теплынь такая, боже мой, а ты ко мне не подошел, и я должна идти домой, хоть в городе так хорошо. Вступила в город наш
Замерла в мертвом молчанье Москва. Чем это красное небо чревато? Слышится частый горох автомата. От напряженья болит голова. Вновь колыхание красных знамен. Полнебосклона в
Несчастен край, в котором может безумец занимать престол. Тех, кто умней, смелей, моложе, упрячет в тюрьмы, уничтожит и установит произвол. Несчастен край, где может
Отвечай, далеко ли простирается твое тело, Вселенная? Человек — беспокойный нейтрон, оторвавшийся от ядра. Человек, как в море за жемчугом, в черный космос нырнет
Над обомлевшей степью свистят перепела. Как угли в теплом пепле, я память берегла. Гора арбузов спелых. Поваленный плетень… Меня, как солнце, грела отца большая
Долго-долго я жить собиралась, наслаждаться, пить жизни мед, но уже эта стерва-старость подсекает и бьет в живот.
Прибилась кое-как я к берегу рассвета, устав, как сто собак. Мне снилось то и это. Всю ночь был сон не в сон, поверхностный, бредовый,
«Оправдать посмертно…» Через четверть века обретаю древо, коего я — ветка. Мне вернуло время имя, род и племя. Не горжусь шляхетством четырехсотлетним, а горжусь
И к нам судьба стучала в дверь, рвала, надавливала кнопку… И среди всех людских потерь — моя душа: в ней и теперь — затравленность,
Жизнь прошла. И так ее жалко! Нет ее. Ничего взамен. И вянет в стакане фиалка среди белых лекарственных стен.
Я в нежных руках государства, одета, обута, сыта. Болею — в аптеках лекарства. Умру — гробовая доска. Ребячество и суесловье, что выболтал магнитофон, прослушает,
Простота хуже воровства — не воры ли придумали это? Не надо каждую поговорку брать за чистую монету. Народ — это разные люди, разные слои
Я долго бродила по галерее. И краски играли, как легкие пальцы, звучали и звали: – Скорее! Скорее! – И жаркой палитрой вокруг рассыпались. Я
Лягушата в ручьи наутек врассыпную летят из-под ног. Прошлогодние корни разрыв, лезут тонкие лапки травы. Синеватый продрогший лесок. Лоскутки почерневшего снега. И к ногам,
Уже шатался материк, твердь под ногами колебалась… О, Атлантида — белый лик, я на твоей земле металась! Грозила небу кулаком и к телу прижимала
А как же вы живете, чужой питаясь кровью? Не тратите при этом даже аппетита? До девяностолетья хватает вам здоровья, хоть вами столько жизней за
— По ком-м-м? По ком-м-м? — звонит все снова, снова Джон-н-н Дон-н-н, Джон-н-н Дон-н-н… К нам тянется та нить. В веках гудит глаголемое слово.
Постепенно оживаю от глухого злого сна, кисти рук освобождаю, выплываю, как со дна. Постепенно ускоряясь, разогрелась в жилах кровь. Сновиденья, разрушаясь, блекнут, тают —
Так радостно – невыносимо! – себя живой вообразить и по земле своей родимой в полях до темноты бродить. Где стол для бабочек накрыли ромашки
В детском треснутом калейдоскопе вразброд разлеглись фигуры… Я такой тебя помню, Европа. Морщинистой. Белокурой. Небольшой городок. Аллея подводит нас к рамам двойным. За стеклами
Что в глаза мои глядите так, будто чуда ожидаете? Ветер мартовский удивительный, но и он ведь ошибается. В синих лужицах закружится, но, как в
Я положила на ладонь свои стихи. Грамм двести будет в них, пожалуй. Это вес моей несбывшейся любви, моей тоски, мой на тебя недорогой бумажный
Пришли. Ночную дачу оцепили. И увели. И нет у нас отца. Наверно, мучили. Наверно, били. Он оказался стойким до конца. Нет в деле подписи
Проснувшись в час печальный, неурочный (а время спать), я буду черной безъязыкой ночи без слов внимать: что в глубине ее живет, таится, а что
О, женщины! Когда б не быт, кастрюль и чашек свинство, когда бы не любви магнит, тоска по материнству… В нас бес, как в колбочке,
Ты забыл, ты забыл, как я шла к тебе — по зиме, по весне, по колено в воде… Ты забыл, ты забыл, как тебя
Все стукачи собак позаводили, прогуливают кротко по утрам. Они ведь добрые. Просто они служили. Они сажали нас, а стыдно нам. Такие добрые… Собаки любят
Озорные зеленые синицы заглядывают в окна на раскрытые страницы Блока. За окном в голубом березы почти золотые, легкая луна лбом к стеклу прислонилась, стынет.
Вот и все. Ничего не окончено. Все как было. Настала зима. И свисают на ясене клочьями темно-бурые семена. Ни о чем не грущу и