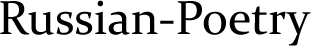И стягивали до отказа, и сдавливали до предела… Но все равно — не для показа душа, как колокол, гудела. И глаза красный уголок, как
Стихотворения поэта Астафьева Наталья Георгиевна
Когда маму забрали под Первое мая, тут же вскоре сославши в казахские степи, мы с братишкой, поехать к ней в ссылку желая, в детприемнике
Не здесь ли, у синего Дона, сидела на камне Аленушка, и братец ее, олененок, ловил потонувшее солнышко? Не здесь ли веками чуть слышно шепталися
До отказа я набита прошлым. Накрепко закрыта плотной пробкой. Но под утро вижу сон. Иду как будто с чемоданами куда-то вместе с матерью и
Вот и кончилось поколенье. Все повымерли. Никого. Порассыпались, как поленья. Как черты лица твоего. Все отмучились. Отошли. Даже некого звать к ответу. И эпохи
Вот он, смеющийся, в газете, такой завидно молодой, когда летит в своей ракете над замирающей Землей. Ему увидеть выпадает планету в солнечном кольце, и
Какая смертная тоска — куда мне деться от нее? Жизнь — словно школьная доска: написано и стерто все. Не белый мел — живая кровь,
Ах, какое время — цветочки нарасхват! И домой и в гости… Беззаботность трат. Ах, какое время! Какие времена! Красные тюльпаны. С юга — где
Не хочу слова подыскивать о любви к тебе навек: ты мне просто самый близкий на планете человек. Это право за тобою за одним лишь
На работу водили в широкую степь заключенных колонны на раннем рассвете. Там несчастную маму встречали мы, дети, приносили ей кашу, картошку и хлеб. Мать
Снежинок острый рой ударит по лицу, как бабочка — пыльцу рассыплет по крыльцу. Снежинок острый рой навалится горой… Летит — на час герой —
Чудачеством назвали честность, а воровство признали нормой, сослали славу в неизвестность, цвет красный именуют черным. Бедность считается пороком, богатым быть теперь престижно, а бомж,
Шевелится в навозной груде жизнь, зарождаясь в жажде быть. Корень напряженно удит, закидывая в землю нить. Кишит икрою лягушачьей вода весенняя, цветя… У предсуществ
Где, спросите, живу? В деревне… Двадцатый век, а будто век назад: избенки темные, в углах иконы древние да семьи, полные ребят. Вот и сейчас…
Еще над землею все мысли мои, а тащат под землю меня муравьи, то крылышко, то волосок оторвут, а я еще тут, я вся еще
Душа моя так наболела, что ей уж некуда деваться, она, как раненое тело, порой лишь вскрикивает: «Братцы!..»
Подходила смерть к самым воротам, ударяла в медь – в колокол заботы. И не отвратить крик рукой усталой, только: — Дайте пить! – я
Твои сурово стиснутые губы с опущенными скорбно вниз концами, высокий, неподвластный смерти лоб — вмурованы под землю кирпичами и вдавлены в дубовый плоский гроб.
Впереди еще январь и февраль и март… Впереди еще зима… Но и в ноябре обжигающий мороз, снега кутерьма. Хмурый, сумрачный декабрь в грязном серебре.
Всех конец одинаков. Я какой-то весной стану почвой для злаков, уйду в перегной. Будет колос пшеница надо мной наливать. Будет песни синица на кустах
Да, я-то знаю, я-то знаю, как пахнет степь, как стебель к небу вылезает, суля нам хлеб. Желанный хлеб! В руке сжимала я колос твой.
Как славно добрести в дороге к постели чистой – и старинной набитой перьями периной всласть удовольствоваться… боги! Или ребенком подкатиться под материнский бок горячий
Снег шатающейся походкой идет по весне непочатой, надевает на окна решетки, все пороги опечатывает. Что голодному чье-то участье! Улыбаясь, в глаза заглянете. Не насытите
Сон-явь… Не так уж редко такое снилось мне… Мне снилась птица в клетке. И мать моя в тюрьме.
Затенил обои — как орел, сутул. Придавил собою колченогий стул. За спиной могучей руки не свести… Сиднем, туча-тучей — на моем пути. Глухо, к
Весна идет по дорогам. Первый гром гремит в облаках. В снеговой воде до порога утопает изба лесника. За рекою в траве примятой, на залитом
Тиран засиделся на троне, а жизнь у людей — одна, и каждую каплю крови он выцедит до дна.
В полдневный жар в долине Дагестана… Не Дагестана, а Таджикистана, Абхазии, Осетии, Чечни с свинцом в груди везде лежат они. И снится им… Нет,
Каркают, каркают серые вороны, грязные помарки на зеленых кронах. Кто вы? Черти готики? Грешники ада? Радиоглотки? Или телевзгляды? Глаз скосила в сторону, гаркает, пугает
За десять дней на нашей даче трава по пояс, цветы с кулак… Я слышу, птицы в листве судачат, что наше дело с тобой табак.
За стеной свистит вьюрок, будто уличный шарманщик. День мне вынет, как сурок, счастье, спрятанное в ящик. Принимаю, веселясь, хоть не верю я бумаге, только
Ровесники мои! Я к вам нежна, как к братьям. Я без вас — как чужестранец, пришелец с другой планеты. Вы — как я, ломались
На зонтики желтого шелка, на солнце, на пальцы, на пыльцу амазонки, охотницы пчелки летят, летят к крыльцу. Подсолнухи головы горячие, подсолнухи головы огромные, опаленные,
Я была рабыней быта, но вернулась вновь к природе. Ветром утренним омыта, отдыхала при дороге. И, как всем зверям положено, в лес ликующего мая
Прохожу вокруг да возле до утра, хмурой тучкой утром рано на порог: — С добрым утром, просыпаться вам пора, мой веселый деревенский рыжий бог!
Вчера была весна, я собственными глазами видела, как несла она голубое знамя. Вчера была весна, ты моих рук касался, до сих пор в глазах
Я поднималась медленно со дна морского к солнцу водорослью синей, я тяжестью была прикреплена к моей Земле, как к ракушке актиния. Я головой касалась
Запахло мокрой прелой хвоей, и мхом, и морем – не понять. Порог родильного покоя. Земля в апреле – та же мать. Набухли зерна в
Как в сталактитовой пещере, шагаю по Арбату… Дома, сосульками ощерясь, вслед смотрят зверовато. Над домом — синие провалы… Дом льдом оброс, как мамонт. И
Глаза убитых — это ад, они глядят, они глядят, глаза их в каждой скважине: — Не убивают на земле? — Не голодают на селе?
Рукой не расправить морщины, на землю не сбросить, как сеть. Не склеить осколки кувшина, все трещинки будут болеть. Забор твоих рук ломаю, еще один
Какие погибали люди! Об этом говорить не будем. Как не хватало дыб… Мы стали все за эти годы обезъязыченной породы, немее мертвых рыб. Когда
Лето… Знаешь, что такое лето? Это — когда двое на порог, спрячут вдруг ленивым взмахом веток веки с солнцем под один платок. Это —
Детство, как сказку, украдкой листаю я по ночам, с папой играю в лошадки: хорошо у него на плечах! Шагаем из комнаты в комнату и
Памятки эпохи сталинской после матери храню… Эту рамку с инкрустацией из соломки на клею. Есть на этой рамке маминой золотые хоть куда в четырех
Звери с детства точат когти, зубы белят о стволы. И растят мозоль в работе молчаливые волы. Ласточки к началу лета вылетают из гнезда. Говорят,
Человек, уникальное чудо средь космических мертвых пустынь, ты, каких не бывало покуда, не загинь, сам себя не отринь. Долгожданный ребенок удачи, эволюции редкий цветок,
Когда б ты бакенщиком стал — хлебал бы щи в охотку, и я бы прыгала со скал с тобой в большую лодку. Мы зажигали
Попала в новую эпоху. Что было плюсом — стало плохо. Прибита к чуждым берегам, гляжу, сторонник аскетизма, сквозь искажающую призму, как Христиане на Ислам,-
Он призван заменить меня, по образу-подобью моему, с клеймом, как у коня, быть роботом-рабом в моем дому. Враждебное в нем чую существо, бессильным богом