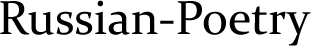Скакали лягушки. Стрекотали зеленые кузнечики. Падали звезды. Пламенели в лесу листья и сыроежки. Голый ребенок лежал на неловких ладонях отца. Красный трактор разворачивал плугом
Стихотворения поэта Астафьева Наталья Георгиевна
Урчит, журчит живой ручей, мне ясен смысл его речей: живу, живу, живу! И небо, словно полотно, подсинено, белым-бело: живу, живу, живу! Лес, захлебнувшийся водой,
Открою каждую морщинку, как прошлогоднюю тропинку. Как лес весеннею порою, тебя я заново открою.
Лепились сами по себе, как ласточкины гнезда… Стихами, двигаясь в толпе, дышала я, как воздухом. Но не хочу я умереть, пропасть стихотвореньем, хочу я
Я проснулась от тревоги и от боли под лопаткой. Ах, чего, скажите, боги, ждать мне от судьбы-загадки? Или горестей разлуки? Или радостей свиданья? Или
Хранящая окраска — мимикрия, тобой одежды пропотели густо, ты прорастаешь в сердце и в печенку и опухолью раковой растешь. Твою коросту яростно смываю, сдираю
Двух станов не боец.. А. К. Толстой Распалась вся страна на два враждебных стана. Кровава и страшна разверзшаяся рана. Безудержность вражды чудовищна, ужасна, чудовищны
Мы с тобою, двое одиноких, вздумали пойти вдвоем. Так давай свою ладонь кинь в мою сухую ладонь! Ты куда пойдешь? Я же – к
Ты звени, звени над рожью, жаворонок полевой, звонко-звонко в бездорожье улетая надо мной. Звонче-звонче, чаще-чаще (чист весь небосклон) рассыпай в росе дымящей бесконечный звон.
Всю ночь в постели я металась, под утро вдруг приснилась жалость в старинных туфлях и чулках, в жабо, в манжетах кружевных и в старых
Словно бабочка-поденка – день угас, ночь впереди. Две руки – как два ребенка, спят, обнявшись, на груди. Отключив во мне, как в зданье, зренье,
Когда историки, как Страшный Суд, придут порыться по секретным сейфам, быть может, среди тех, кого найдут, им попадется и мой дядя Стефан. Пускай присмотрятся
Как лодка, к берегу причалена. Но снова ветер необычайного меня уносит прочь — туда, в соленые пределы, где на волнах, от пены белых, нахохлясь,
Я живу еще пока… Ключевою умываюсь… Надо мной твоя рука, смерть, но я еще живая. Я цветок еще, не мни… Поживу еще немножко –
Вновь — смена декораций. Театришко — убог. Сверкает разной краской чреда чужих эпох. Меняются и лица: тот — олух, этот — псих… И длится,
Плохая связь у яви с подсознаньем, только проснусь — и сон мой позабыт, меня суровый призывает быт к сиюминутному деянью. А часто жаль: подводная
Я вспомню твой широкий шаг, и станет грустно и легко. Прощай, мой друг, прощай, мой враг, — сейчас ты слишком далеко, и я считаться
Пусть гремит, пусть плачет тихий Дон: с глаз долой — из сердца вон… Я пойду наперекор судьбе не к тебе, не к тебе! Я
Над Кремлем облака сине-снежные. Чуть золотеют кресты. И непонятная нежность меня наполняет… Прости, прости, что твои за собою глаза, как молитву, ношу, у догоревших
К холодным ногам приехала. Метель завевает снег, и едет по снежным вехам в последний свой путь человек. Была я ему как солнышко. А был
Прошепчу слова такие, чтоб снега они растопили. Крикну так, что оглохнет ветер… Но ты все равно не ответишь.
Фольклорная явилась экспедиция… Но умерла последняя певица от рака горла, пролежав на печке, на голой печке, страшные недели. Мы к ней зашли, беззвучно губы
Мое чистое светлое детство, как в ясное утро заря! Пусти меня погреться! Примешь ли ты меня? «Интернационал» играют — мы с братом отдали честь…
Как ласково на мир глядят глазами выцветшими старцы. Так только доченькины пальцы ласкают брошенных котят.
Я не могу знакомиться с людьми, дрожит ладонь с брезгливою опаской, пока меж нами бродят (кто?- пойми!) доносчики тридцать седьмого в масках. Доныне в
Как дом сухой, как сухостой, как степь, испитая ветрами,- от вспышки малой — спички самой обычной, кондровской, простой — займется и пойдет гудеть, как
День приходит и уходит, а в окне одна без края — на закате, на восходе — туч пустыня голубая. Не проделать в тучах дырку,
Хочу быть доброй, как природа, хочу быть ласковой, как мать, и каждого, даже урода, хочу любить, хочу понять. Хочу остаться человеком даже в страданье
Проехали аул, наверно, с час назад, а все он, как кавун, качается в глазах. Только уже к ночи добрались в другой… Казах-хозяин потчует чаем,
Я сдалась и облетела, всей листвою отгорела. Утомившееся тело, отболев, ушло без гнева. Не сдавайся, человече, и листвой своей шуми на величественном вече жизни,
О, люди-рыбы! Люди-птицы! В пространстве бесконечном ночи куда плывете? куда летите? что узрил там ваш ум пророчий? Была дана вам вся планета, как в
Почему так нетронуто звонко стародавнее слово: душа? Я осталась девочкой тонкой с голубых берегов Иртыша. Назовешь меня нежной и робкой, заколотится сердце в тоске,
Опрокинули фары на потолок бульвары, и над твоей кушеткой перебегают ветки. А ты спишь как убитый, чай на столе недопитый, ночь загляделась в кружку,
Земля приготовилась зерна принять. Дожди напоили. Листья сгнили. Снега укрыли. Яблоком светится, солнцем полна. Прогрета, распахана солнцем-дождем. Проспится в мешках золотое зерно. Колесами сеялки
Четыре следователя вели допрос. Четверо суток это продолжалось. Четверо суток матери пришлось Стоять. Но выстояла, продержалась. И день и ночь стоять, стоять, стоять, —
Когда души спокойствие нарушу, мне кажется фальшивым каждый звук, и целый день все падает из рук и слезы выворачивают душу. Разбуженному заспанному мужу я
Когда проснешься среди ночи, охватит ужас и тревога. Что, ночь-цыганка, напророчишь — сума, тюрьма или дорога? Что позади? Одни потери. А впереди — темно,
Придавила память. Пусть не в рост покамест. Но не ветка согнутая, а пружина собранная!
И снова снег, такой пушистый, такой сухой, спокойный, зимний… И вылетает воздух мглистый из отворенных магазинов. Ты помнишь, в январе глубоком вода дороги затопила?
Забежал ко мне на минутку отыскал холодные губы… Сразу стало весело и жутко чувствовать себя маленькой и глупой. Запрокинула голову, сердце натолкнулось на сердце
Отделилась ветка от меня, стала жить сама. На зеленых листьях жилки, как дорожки. Линии расходятся на ее ладошке. Гляну с удивлением чуть со стороны…
Слаборозовым светом освещена противоположная сторона, там, где солнца лучи нежно окрашивают кирпичи.
И пребываю я в покое, таком большом и сердобольном, как будто поле вековое, привыкшее к смертям и войнам.
Когда в окно с одной надеждой — шею сломать или скорей сойти с ума… Не жизнью дорожили, нет, не ею — не вынесли позорного
Нализавшись, как скотина, он лежит у магазина весь в грязи. Перебрал и обессилел, сам себе он опостылел, бог прости. — Вас же, мерзкие притворы,
Уничтожилась русская деревня, вместе с русской печью отошла, магазинного хлеба изделья подовому хлебу предпочла. Почему мне жаль русской печи? – я так мало спала
Словно страстная дрожь, до рассвета любовь, сотрясала леса соловьиная дробь. А сейчас все умолкло, пусто вокруг — улетел соловей, мой таинственный друг, в темных
Я у окна балкона, Ты у окна вагона… Далекий мой, заоконный, ребенок мой незаконный! Под сердцем тебя не носила, Володей тебя не крестила —
Жизнь призывает к ответу грубо и встряхивает меня, как щенка… Катится рынком веселый обрубок — нет ног и только одна рука. Перебирает рукой, и
Слетают исторические лица, как пешки, с пьедестала. История, как львица, их жрет и жрать уже устала.