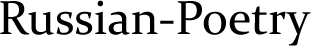Днем — мышья беготня, хлеб — и т. д. Днем — снег, ветер, птицы — и т. д. Днем — будильник, школа, служба —
Стихотворения поэта Астафьева Наталья Георгиевна
Мы, дети атомного века, не празднуем свое рожденье. На двери — мамины засеки. От снятых фотографий — тени. Мы не успели оглядеться, не выучили
Ты мне в который раз приснился, все мое чувство к тебе – нелепость, трижды развенчанным сохранился, словно не сердце в груди, а крепость.
Человека не носит Земля. Человек же, убийца матерый, всю планету собой заселя, рвется в Космос, в иные просторы.
Доколе будет русская деревня в ржаной соломе, в крышах набекрень? Что может быть обидней и плачевней, чем вдовья бедность русских деревень!
Перевернись на правый бок, и светлый сон тебе приснится, качнется ветка, пискнет птица, и булькнет в гальке ручеек.
Я птица — подбитая птица… Луна не смогла отразиться в твоих неподвижных зрачках. Тут плиты, тут люди зарыты. Тут гроб материнский в цветах. Но
Лежат лебяжьи тихие болезные снега… Все торопилась, бегала – перед весной слегла. Мои родные-близкие попрятались в земле. В могиле, в черной матушке, не страшно,
Был зелен лес, как будто гол. Но куст шиповника расцвел. Он цвел так звонко, ярко-ал, он цвел, как будто распевал, красное лето славил… Так
Зелеными клювиками земля пьет сладкий ливень. Свернулась улитка. Звонкое «ля» сверкает на крапиве.
Была у бездны на краю, у бездны горя… О том уже не говорю, что вор на воре, чему и быть, как не гнилью: подрублен
Я выпала из времени, из хищной злобы дней. Не с этими, не с теми я — я с теми, кто бедней. Устав от лжи
Холод, голод, нищета… Все последние годы жизнь моя была пуста и полна невзгоды Мыслей нет в голове, в сердце только злоба, думаешь лишь о
Город, город, в тебя влюбленную дочь свою прими обратно… Я буду доброй, как с кинопленок. Я приведу к тебе моего брата. Многооконный, многоэтажный, скажи,
И тучи спадают завесою с глаз. И светится неба стекло. И, высыхая, туманится грязь. И сосны на солнце. Тепло. А скоро на рыжих макушках
Кончаются мои враги, уходят понемногу, но скоро уж и я уйду в последнюю дорогу. Кончаются мои враги, но мне в том мало проку. Кончаются
Дождевые тучи снова налетели в небо чистое, словно птицы бестолковые, синеперые, голосистые. Речка вся в гусиной коже. Холода. Октябрь месяц. Смят травы намокший ежик.
Так птицы в зеркало летят, так в стекла бьются головою, так в яркий масляный пейзаж летят, как в небо голубое… Кругом — закрытое пространство.
Густое, комариное, темно-зеленое, лето стозвонное. Колкий колос в горсти топорщится, в емкое поле солнце пролито. В Доне же, в Доне небо ли тонет? Язь
Я кролик, загнанный в загон, комок дрожащий, что обмяк. Не защищает твой закон, но убивает твой кулак. Дубина — «хряк!», дубина — «хэк!» —
Гляжу сухими глазами на краткий жизни срок. Как рушится твердый камень. Как из трещин течет песок.
Впервые постигаю смысл и вкус земли, когда меня срывает жизнь, как желтый лист. Не мои ноги — две скалы врастают в грунт. Не я,
Я собирала колоски в степи огромной. Я приносила васильки — букетик скромный. Над серым жерновом вдвоем с тобой сидела и хлеб с приставшим угольком,
Переменились ветры — пошли налево дуть, и прежние запреты переменили суть, И прежние порядки переменили стать… Но те, что брали взятки, не могут перестать.
Остались только слабые следы от жизни бестревожной детской, обломки кораблекрушений, осколки бедствий, два-три растрепанных пера, скелет сухой морской звезды, орешек золоченый грецкий, язык немецкий.
Обвис мокрый флаг. Человек обмяк. Душа должна выпрямиться, лечь на свой костяк.
Снег идет, прямой, отвесный, в рот возьмешь — пушистый, пресный, в пышных хлопьях с высоты, чуть похожий на цветы. Снег идет такой богатый, плавный,
Опять пустынная столица к моим услугам. Куда мне с болью приютиться? — снимаю угол. В пути читаю объявленья — куда мне с болью? Куда?..
Сон, приди, своей рукой веки нежно мне прикрой. Я усну и успокоюсь, тело потеряет вес, мне приснится птичий лес, луг с живой травой по
Говорится, что рай, мол, для нищих. Это все — разговор для бедных. Не обрящут они, хоть ищут, ищут в Новых Заветах и в Ветхих,
Каждый вечер — бродячие очи ко мне псов голодных, бездомных в морозные ночи… Это, город, твои воспаленные очи у подъезда встречают меня в полутьме.
Я уезжала, бешеные кони рванули с места, будто от погони. Пурга снегами, некуда деваться, крутила, не поймешь, где верх, где низ. Вновь наступала смена
Мне надоело слушать. Коробочка пуста. Мне прожужжали уши и выпили уста. Мне надоело верить, постель перестилать. Мне надоело двери любимым открывать. Я сердце успокою,
Утратив все, утратив все, блажен Иван Крылов. Который год без лишних слов он жизни крест несет. Он приживальщик ваш и шут, участник умственных бесед,
Оказался ласковым нежданно. Прядь на лбу податливых волос. А глаза, что карие каштаны, жаркие… и видные насквозь. Выбралась на палубу из трюма, из нечеловеческой
Ты никогда не забывал, когда в каком была я платье, ты никогда не забывал, где задержали нас объятья — меня ты только забывал! Вся
Когда она посуду мыла, летали мысли далеко, ее загадочно манило пустое гулкое окно. Она в него ложилась птицей и опускалась пауком, было забавно опуститься,
Юродство слабости я не приемлю. Пусть я врасту под глыбой горя в землю. Пусть каменных палат себе не выстрою. Я выстою. Я в грудь
С этим миром ласково прощаюсь, уходя, придерживаю дверь… Не печалю вас своей печалью, милы мне и человек и зверь.
А ты что радуешься, дурень? Что ты пойдешь на корм червям? Мир примитивен, но структурен и чавкает, как ты: «ням-ням…»
Лягу. Крепок сон-темница. Мышцы чувств напряжены. Неотвязное мне снится. Страшные бывают сны. Там умершие давно люди — все еще живые. Небылицы, дни былые сон
Погибнут первыми сосна и ель, кедр, пихта, лиственница, туя — их губит облученье пять рентген. Потом пернатые: дрозды, скворцы, синицы, щеглы, чечетки, зяблики, кукушки
Дым поднимается снизу, медленный, плавный, долгий… «Лизанька, Лизочка, Лиза» — кто-то кричит над Волгой. Кто-то живет иначе: правильно, просто, мудро. Дверь открываю настежь в
Доносители, соглядатаи, современники, соседи… О, эпоха, твои проклятые на себе я чувствую сети! Искалечены, переломаны, изуродованы ваши души. Насторожены на все стороны, как локаторы,
Война мне виделась Горгоной со змеями казахских кос. Над нею возвышались горы, под нею унижался город и костылями нервно трес. Весь город торговал. Иголка
Я больна, больна сегодня, потому что не свободна, потому что целый мир заперт в камерах квартир.
Память отрочества — мой семейный ларец, там не жемчуг — мои затвердевшие слезы, там еще улыбается мертвый отец и по снегу скрипят детских санок
Мы не замерзнем и не сгорим, стала стартовой площадкой планета, улетим мы с земли, улетим перед самым концом света. Так я думала, но не
Когда я заболею, умрет последний друг, и голод, мальчик маленький, пойдет скакать вокруг… Свезет меня в больницу могучий санитар, медсестры круглолицы, а повар —
Польские революционные песни! «Варшавянка», «Червоны штандар», воскрешавшие после репрессий память в сердце о чем-то давнем! Я рыдала, услышав снова ваши полузабытые тексты о тиранах,